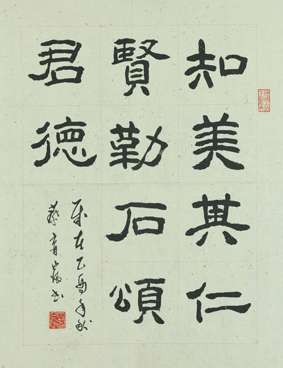Восточноазиатский политикум. Часть II. В предвосхищении мира.
Владимир Малявин
![144144bbau4vau2hh7bghv[1]](https://sredotochie.ru/wp-content/uploads/2014/02/144144bbau4vau2hh7bghv11.jpg)
Как можно понять из предыдущего изложения, задача создания полноценной системы региональной политики в Восточной Азии сводится к совмещению горизонтали «периферийности» с вертикалью «центрированности». Пространством этой совместности как раз и служит мир Поднебесной – «священный сосуд» человечества, воплощающий его изначальное и одновременно высшее единство. Однако решение указанной задачи осложняется внутренней раздвоенностью самого понятия единства восточноазиатского региона не только в его геополитических основаниях, но прежде всего в самой природе субъектности, ему соответствующей. Последняя принципиально прерывна и заключает в себе азиатскую «тайну», «утонченное существование» (мяо ю) взаимной подстановки или сокрытой преемственности внутреннего и внешнего, субъективного и объективного измерений опыта. Недаром в китайской традиции бытие определяется как «сокровенная сообщительность» (сюань тун) или «свободное смещение», «игра» (ю). Речь идет о свободном со-общении в мировом всеединстве, которое выражается в игровой подоплеке ритуала или, если угодно, в ритуальной значимости игры.
Нельзя сказать, что поставленная цель принципиально недостижима. В реальной жизни Поднебесного мира уживаются и вертикаль, и горизонталь, причем ни то, ни другое невозможно устранить. Не существует только сколько-нибудь внятной теории такого сочетания.Тем не менее, восточноазиатское наследие указывает некоторые возможности подступа к означенной проблеме. Даосское понятие «таковости» (цзыжань), например, позволяет говорить о единстве – или, точнее, совместности, взаимной проницаемости – разных и даже несопоставимых величин. «Таковость», как мы помним, – это слепое пятно чистой актуальности в азиатском «паноптикуме». «Чем меньше вещи подобны друг другу, тем более они сходны в своей таковости», писал классический комментатор книги «Чжуан-цзы» Го Сян на рубеже 3-4 вв. Именно в «таковости» сходятся величайшее и мельчайшее. Более того, «таковость» устанавливает преемственность уникального и универсального, единичного и единого и в этом качестве указывает на единичность вселенского центра, которая, по слову одного из комментаторов «Дао-Дэ цзина», «одиноко возвышается над всем». А точка этого вселенского средоточия – «утонченная истина» (мяо ли), которая обозначает предел всякого существования, вездесущую между-бытность сущего, в которой противоположности переходят друг в друга и друг друга восполняют, оставаясь совершенно самодостаточными. Со своей стороны, восточноазиатский буддизм учит о взаимозависимости дхарм в их полной самостоятельности и взаимном невмешательстве. И наконец, таков же принцип конфуцианского «ритуала», который, разделяя людей, соединяет их и притом дает власть тому, кто уступчивее (чувствительнее, утонченнее) всех. «При равенстве сил на поле боя победит тот, кто больше скорбит», говорит Лао-цзы. Дело не только в том, что больше шансов на победу у того, кто не имеет желания воевать и, следовательно, более покоен, сосредоточен, не предпринимает самочинных действий и потому тратит меньше сил и меньше связан предрассудками. «Мирный», смиренный воитель побеждает, не вступая в бой, и потому живет в мире с побежденным, делает его своим партнером, а это куда важнее единовременной победы в поединке.
В истории подобная «благотворная беспристрастность» выражается в том, что теоретики стратегии иногда называют «свободно конвертируемыми отношениями». Последние характерны как раз для отношений русских с «инородческим» (т.е. буквально единородным!) населением Сибири и Дальнего Востока, с которым, по меткому замечанию Э.Ухтомского, русским «было легко дружить или враждовать в зависимости от обстоятельств».
Политическая система Восточной Азии на протяжении многих столетий действительно выстраивалась сообразно этим принципам с одной важной оговоркой: современные государства твердо держатся западного по своему происхождению принципа национального суверенитета и мобилизации всех ресурсов в пределах своих (неизбежно несколько размытых) границ. Традиция предоставляет им такую возможность, поскольку, как мы видели выше, утверждает полную непроницаемость внутреннего мира индивида в океане «всеобщности». Не удивительно, что КНР до последнего времени строго соблюдала нейтралитет в Совете Безопасности ООН и при этом самым решительным образом пресекала попытки вмешательства в ее внутренние дела. Такое поведение точно соответствует отмеченному выше принципу исключения частной жизни, включая семью, из публичного пространства.
Непохоже, чтобы государства Восточной Азии так легко последовали примеру стран ЕС и добровольно отказались от части своего суверенитета. Но нужно найти способ сделать это хотя бы потому, что принцип суверенитета ущемляет целостность «Поднебесной» и плохо согласуется с традиционным балансом сил в Восточной Азии. Кроме того, он противоречит потребностям глобализации. Вследствие этих препятствий концепция Поднебесной до сих пор остается в большей степени фактором стратегического противоборства и действия гипотетической мягкой силы, нежели действенным инструментом региональной политики.
Чтобы развязать восточноазиатский «узел» мировой политики, нужно обойти уровень нации-государства одновременно сверху и снизу, т.е. ввести в региональную политическую систему факторы как глобального, так и локального значения, а кроме того обосновать их взаимную связь. Слово глобальность недаром так часто переиначивают в «глокальность». Нет ничего более глобального, чем присутствие в родном мире недостижимого другого, присутствие интимно неведомого. Всемирность имеет смысл, только если она соотносится с конкретным местом в его неисчерпаемой инаковости – заповедным местом. Это справедливо еще и потому, что содружество этносов и культур в локальном масштабе является действительным прообразом глобального мира. Между тем и другим, несомненно, имеется органическая связь.
Можно спросить, однако, не соответствуют ли межгосударственные отношения в Восточной Азии, характеризующиеся отчетливым сознанием их метацивилизационного единства при не менее ясном понимании их разобщенности, пониманию реальности как принципа единства в различии и встречи разделенного? Многие трудности и недоразумения в отношениях между государствами этого региона объясняются тем, что до сих пор несуществует концептуального языка для описания того, что было названо выше азиатской «тайной», этого сходства несходного, хотя политическая система, выстроенная на этом основании, вполне может быть в своем роде и всеобъемлющей, и прочной, и гибкой. Новейшие тенденции в политической теории, кажется, дают возможность такой язык создать.