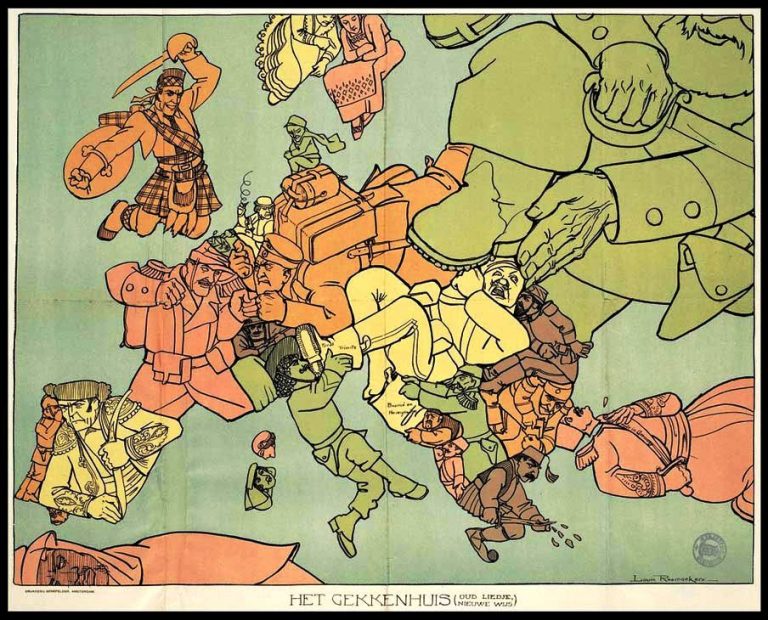Восточноазиатский политикум. Часть II. В предвосхищении мира.
Вспомним, что «постмодернистский» поворот в современном мировоззрении сопровождается радикальным переосмыслением политического субъекта и самой природы социума. Сущность этого поворота заключается в том, что условием индивидуальной или культурной идентичности становится не тождество себе, а саморазличие, така что решающее значение в политике приобретает не форма, не пространственная организация, но фактор времени или, точнее, присутствие в хронологическом времени чистой временности. В первом случае, т.е. в эпоху Модерна, в центре мира стоит статичный, равный себе индивид. Во втором случае мы имеем дело с динамической субъектностью, некоей длительностью, которая в конечном счете оказывается круговоротом, взаимным наложением виртуального и актуального измерений существования. Этот бытийный круговорот есть ничто иное, как путь самовосполнения, собирания себя в мире и мира в себе посредством самоуступания или уступления себе. Акт само-оставления соответствует разрыву в опыте, преемственности отсутствующего. Он лежит в основе ритуальной модели об-ходительного, пред-упредительного поведения, которая определяет всю систему политических отношений в Восточной Азии. Единое предстает здесь именно как совместность, неформализуемая согласованность, «конгруэнтность» индивидуальностей – бесконечно разнообразная, прикровенно заданная и потому ускользающая от рефлексии подобно тому, как целостность нашего телесного опыта всегда отсутствует в нашем сознании. В этой точке-средоточии, как говорили в Китае, «великого единства» мир существует в собственном предощущении, предвосхищает себя. В ее свете человек от своего человекообразного, антропоморфного существования восходит вспять к человекопорождающей, антропогенной реальности: он обретает способность, говоря словами даоса Чжуан-цзы, «быть таким, каким еще не бывал». В Китае это сокрытое условие коммуникации и, следовательно, всех культурных смыслов называли по-разному: «великое тело», «великий» или «верховный предок», «изначальный облик», «подлинное я» и т.д. С этими понятиями сопоставимы упомянутое выше «сверхвременное соборное тело» у В. Муравьева и, mutatis mutandis, «тело без органов» Делёза и Гваттари.
Мы покидаем здесь привычную оппозицию «я» и «ты» и вступаем в пространство «единотелесности» мира, она же вселенская просветленность, ибо мерой сознательности здесь выступает точность соотнесенности сознания с инаковостью, иначе говоря – соотнесенности с самим собой вне себя. Как раз это пространство обозначено в классических формулах – столь же лаконичных, сколь и глубокомысленных – китайской традиции:
«Соответствуй реальному[1] в таковости».
«Мое и его – (как) одно».
Скобки в переводе указывают на разночтения, не просто допускаемые, но изначально предполагаемые в китайском оригинале. Бытие в таком случае оказывается самим собой, становясь подобным себе. Оно есть соединяющее разделение. Иносказательность (именно: сказание всегда об ином и одном) есть способ преодоления неразрешимых логических антиномий. В конечном счете «таковость» бытийствования выражает себя в утверждении: «как бы не так!». Впрочем, в согласии с правилами «утонченного превращения» последнее может только подразумеваться, тем более что в китайском языке отсутствует сослагательное наклонение. На этой анафоре, представляющей всеобщий троп китайской словесности и, отметим особо, словесный образ ритуала, воздвигнуто все здание китайской мудрости. А эта мудрость указывает на нечто, происходящее по ту сторону исторической диалектики, в апокалиптический момент самоупразднения или, в сущности, самопретворения всего и вся в вечносущий тип, бытие «сверхвременного соборного тела». Недаром аналог ему в западной литературе мы находим в суждениях ап. Павла об «имеющих как не имеющих» и «радующихся как не радующихся»; суждениях, которые относятся к опыта конца, исчерпания времен.
Реальность «утонченна», потому что предстает в образе иного и противоположного. Мудрый правитель, преисполненный жизненной мощи, выглядит как «мертвец» и «кусок земли». Мудрец, говорит Лао-цзы, «уподобляется своему праху». В свете этой парадоксальной связки в китайской традиции, а равно в постмодерне вместо оппозиции индивида и общества, или единственного и единого, на передний план выходит соотношение, а точнее, нераздельность и преемственность единичного и множественного, ибо единичность существует лишь в рамках серии явлений, вариаций темы. Или, лучше сказать, единичность очерчивает нетематизируемую, непредставимую полноту человечества в каждом человеке, в предельной конкретности человеческой практики, предстающей бесконечной игрой отражений.
Новое видение человеческой социальности выражено мыслителями постмодерна в целом ряде по-разному формулируемых, но сходных по сути образов общественности: «бездействующее сообщество» Ж.-Л. Нанси, «недостижимое сообщество» М. Бланшо, «грядущее сообщество» Дж. Агамбена, «сообщество тех, кто не имеет между собой ничего общего» А.Лингиса, социальность «множества» М. Хардта и А.Негри и др.
Все эти общественные проекты объединяет отрицание трансцендентных принципов общественной организации. Никакой политики как публичного соперничества или согласования интересов. Никакого либерализма, социализма, национализма, консерватизма и прочих измов. В новой социальности, которая создает не общество, а вольное, аморфное сообщество,человеческая общность, по слову Нанси, опознается в самом факте раздельного существования, что хорошо передается по-русски: людей разделяет как раз то, что разделяется ими. Речь идет о чистой совместности единичных жизней или, как опять позволяет точно выразиться русский язык, событийности событий, столь же текучей, сколь и непреходящей, глубине всех изменений и, следовательно, условии человеческой деятельности вообще. Такая общность опознается по ту сторону всех общественных форм и институтов и как бы заслоняет их собой, хотя не обязательно их отменяет.
Уже можно отчасти понять феноменологические посылки этой постполитической или, если угодно, метаполитической социальности.Ее исторические истоки нужно искать в природе современной информационной цивилизации, сделавшей возможным автоматическое и системное воспроизводство общественного бытия и позволившей достичь такого уровня обобществления человеческой практики, что капиталом стала сама зрелищность мира, всеобщая телекартинка, заслонившая частные жизненные миры. В результате реальность предстает вездесущим, самовоспроизводящимся, абсолютным симулякром, т.е. симулирует самое себя; творчество становится притворством. Теперь отчуждению подвергается сама человеческая совместность, повседневность, переведенная в образ, – неизбежно фиктивный. Соответственно, власть систематически скрывает себя, прикидываясь (с разной степенью искренности) демократией прежде всего потому, что в демократии «место власти» пусто. Власть как электронная картинка проявляется в форме рассеивания силы и хочет казаться «техническим правительством». «Бездействующее сообщество» противостоит диктатуре симулятивности именно тем, что не имеет никакой организации, идеи и даже цели. Оно призвано вернуть людям или, точнее, побудить людей вернуть себе (в любом случае здесь уже не приходится говорить об отдельных индивидах) не просто утраченное или забытое, но вечно отсутствующее условие их социальности, подлинно человеческий субстрат «общественного животного», чем человек в самом деле стал в эпоху Модерна.
Сообщество людей, разделяющих только свою раздельность, не имеет имени и кажется слишком рыхлым, лишенным опознавательных черт, вообще «никаким». Это не значит, что оно фиктивно или бессильно. Говоря марксистским языком, обобществление в информационной цивилизации достигло такой степени, что общественное богатство, уже неотделимое от коммуникативных сетей, может быть только общим. Содружество стран становится действительно общим достоянием, commonwealth.
Перед лицом власти, узурпирующей все формы и образы человеческого общежития, оперирующей фиксированными и однозначными идентичностями, сообщество свободных и неповторимых людей-личностей просто обязано быть анонимным и аморфным, как непрозрачные для посторонних учитель, стратег или отдельные школы духовной практики в Азии. В конечном счете оно существует только потенциально, прячется в спонтанности человеческой бытности. Ему предназначено быть «каким угодно сообществом» (Агамбен), и оно растет и крепнет благодаря свободе неформальной коммуникации неотделимой от игры и представления – этой подлинной основы человеческой социальности. Речь идет, по словам Хардта и Негри, о «молекулярной концепции закона и нормотворчества, основанных на постоянном, свободном и открытом взаимодействии единичностей, которые своей коммуникацией создают общие нормы. Понятие единичности становится более понятным, если связать его с этическим понятием представления себя. Эти нормы создаются совместно, в социальной коммуникации». В современных условиях, продолжают они, «коммуникация сама производит не только экономические ценности, но и субъективность… Мы можем понять эти формы социального выражения как сети множеств, которые сопротивляются господствующей власти и способны изнутри себя создать альтернативные формы выражения»[2].