Быть учеником или учиться быть?

Владимир Малявин
Все учатся, и сама жизнь есть учение. Факт очевидный или, по крайней мере, интуитивно всем понятный. Но в учении есть еще тонкое, не очень заметное со стороны, но, как я понимаю сегодня, крайне важное различие: можно быть просто учеником и можно учиться просто быть. А быть мы можем, конечно, только человеком. Русский язык, как всегда, тонко и точно размечает эти два смысла: мы можем что-то раз-учивать и можем, когда предметом учения становимся мы сами, раз-учить-ся. Разучить себя означает разучиться всему, чему научился. Или, как говорит Лао-цзы, нужно «учиться не учиться» 学不学.
Как ни значителен этот выбор для нашей судьбы, жизнь не сразу предъявляет нам его в неумолимой ясности. Учеба начинается с заучивания общих правил и подражания образцам. В начальной школе мы старательно пишем буквы по прописям, запоминаем стихи и прыгаем в длину, не помышляя о тайнах самопознания. Только впитав в себя знания и навыки учителей, освоив их стиль, мы становимся способными к самостоятельному творчеству. Мы получаем силы жить, усваивая плоды чужих жизней. Более того: чем больше мы впитаем в себя других жизней, тем ярче проступает наша индивидуальность. Вот где кроется подлинное оправдание братства. Но речь не о потакании капризам или врожденным чертам характера. Здесь протекает таинственная работа преображения природного индивида в одухотворенную личность, открывшую в себе вечноживые качества, стяжавшую родовую полноту бытия.
Ученик может быть очень искусным знатоком своего дела, блестящим профессионалом. Но он только «оперирует» с материалом и скован правилами, даже когда, как часто бывает в современном искусстве, против правил восстает. Ограниченность ученика интуитивно понятна каждому, и нет в оценке человеческого творчества критерия важнее, чем различие между ремесленничеством и искусством. Потому что человек рождается с интуицией свободы, и стать человеком для него – значит стать свободным. Но нужно еще созреть для свободы.
Тот, кто ограничивает свое жизненное задание техникой, по определению становится равнодушен и даже враждебен к морали. В этом состоит узость и даже убожество профессионализма. Профессионалом может быть и вор. Не отрицая необходимости профессионализма в человеческой жизни и даже глубочайшей потребности в нем человеческой души, ведь человеку свойственно хотеть «делать хорошо» (тоже разновидность морали!), скажем со всей твердостью, что профессионализм оправдывается свободой от всякого деланья. Любой мастер подтвердит, что технику нужно освоить в конечном счете для того, чтобы ее оставить. Профессиональная деятельность – это тот оселок, на котором оттачивается наша свобода. По-другому не бывает. Бездельнику никакая свобода не светит. Свободу он путает с отрицанием и разрушением – просто потому, что у него нет умения, которое можно было бы оставлять, а оставить свое своеволие он не может, ведь оно так удобно освобождает от ответственности творца. Остается все ломать с тоскливым сознанием, что когда-нибудь очередь дойдет до тебя самого.
Русский язык опять-таки позволяет изящно описать момент перехода от ученичества к «научению бытию»: сознание должно разделать себя, чтобы раз – и сделать себя. В разделанном мире нет ничего устойчивого и определенного. В нем все существует совместно, постоянно смещаясь, в нем вещи не держат себя, в нем все передается, но никто никому ничего не передает. «Сокровенной передачей света понимания» назвал разделанное – раз – и сделанное – бытие Лао-цзы. Ибо предел обыденного у всех на виду, но абсолютно невыразим.
Профессионализм достигает подлинной зрелости и перерастает в мудрость, когда подправляется – и обосновывается – совершенно особым моральным усилием оставления всего; оставлении, в котором я отдаю себя жизни и становлюсь причастным ее безмерной мощи. Иногда этот момент драматизируют, говоря о «внезапном просветлении» или «скачке из царства необходимости в царство свободы». В самой жизни зазор между тем и другим не так уж велик, даже почти неприметен. Виртуозное мастерство находится уже на грани того и другого. Свободу, как всякое совершенство, нужно постоянно возобновлять и подтверждать, в ней нужно постоянно упражняться. Недаром первый и главный в мире философ «дела свободы» Лао-цзы учил «практиковаться в постоянстве» 习常. На высших этапах учения мудрость чистой, беспредметной, всецело сердечной работы почти полностью затмевает технику. Мир оставляется себе, что в пределе означает: жизнь пред-оставляется своей свободе.
Нельзя оставить мир себе, нельзя упражняться в постоянстве, не переменив мирской образ мыслей, не пережив метанойи. Тот, кто постиг великое постоянство, ищет не точки опоры, чтобы перевернуть мир, а безопорности, которая дает свободу превращениям мира (именно всеобщему пре-вращению как чистому покою: вращению самого вращения мировой сферы). Такое дается только истинно бдящему, т.е., по христианской традиции, удерживающему незаметный зазор между заданным и данным, оставлением и оставленным, не-сущим и все в себе несущим. Превращение – это промельк обетования.
Вот истина, до которой дозреваешь не сразу: рутина закабаляет спящих, но освобождает бдящих. Как виртуоз отвлекается от всех ограничений в своей деятельности благодаря безупречному владению техническими средствами, так мудрец освобождает себя, добиваясь полной четкости и размеренности своей жизни. Освобождается для чего? Ответ Лао-цзы прост: для деланья дела, но так, чтобы дело само делалось. «Величайшее мастерство выглядит неумением».
Что же, мудрецу суждено остаться в этом мире незаметным и неузнанным? Даже если так, в этом нет драмы, если жизнь прожита сполна. Но на самом деле оставление жизни не остается без награды и притом величайшей из всех возможным. Эта награда – весь мир в неисчерпаемой полноте его проявлений. Мудрый богат миром.





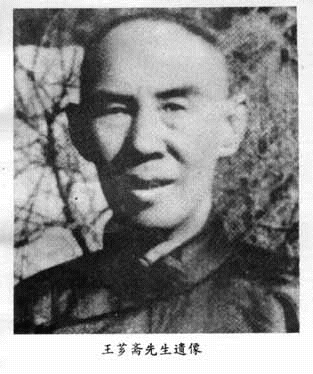

Спасибо. Прекрасно!