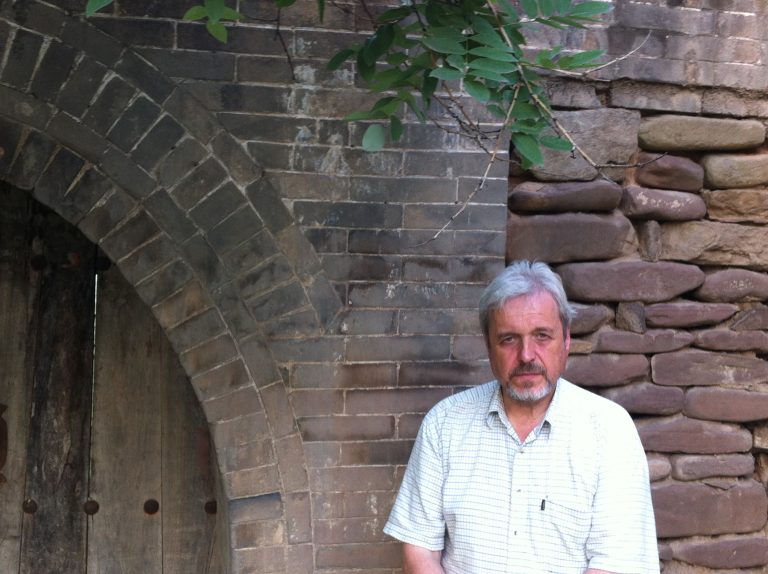Педагогика и философия в Китае

Отрывок из подготовленного мной к печати «Очерка образования и педагогики в старом Китае». Несколько слов о наиболее общих посылках педагогической традиции Китая.
Если учение, как впервые в истории возвестил Конфуций, является верным и даже единственным способом очеловечивания человека, размышление о нем требует вернуться к глубочайшим основам жизненного опыта – туда, где еще нет субъектности и опознаваемых ею идей, сущностей и даже образов, но все только бывает, случается в неопределенной цельности потока мировой жизни. Это состояние синергии рассеянной множественности, где в единичности отдельного момента существования опознается безусловное единство всего сущего. Никогда не данное, но всегда заданное предметности опыта, оно предполагает способность предчувствия (русский аналог латинской проприоцепции) событий, предадаптивной цельности жизненного мира и потому служит подлинным фундаментом жизненного единства личности. В нем мир предстает «сетью Индры», где каждый узел отражает, виртуально вмещает в себя все прочие, все существует вместо и в месте другого при отсутствии фиксированных «мест», восприятие постоянно соскальзывает к собственному пределу, к нюансам, деталям, подробностям. В мире, где есть только частности и случайности, малейшая трансформация равнозначна вселенской катастрофе: «взмах крыльев бабочки в Шанхае порождает бурю в Нью-Йорке».
Одно из главных различий между Западом и Востоком состоит как раз в том, что западная мысль отвергла неопределенную цельность бытия ради умозрительно постулированного порядка, выраженного в грамматике языка, ибо этот порядок (как ей казалось) дает знание мира и контроль над ним. Мысль же Востока осталась верна подлинному архе, «началу начал».
Между тем спонтанность и случай – два совершенно неустранимых фактора бытия. Любой порядок конечен, но случайность воистину бесконечна. Не может не быть именно то, что не может быть. Поэтому случайность составляет исходный ресурс учения: мы учимся прежде всего «по случаю», в конкретных жизненных ситуациях, несводимых к тому или иному правилу или принципу. Так понимал учение Конфуций, который требовал «во всякое время претворять постигнутое в учении». Первый мудрец Китая утверждал, что в компании любых двух человек найдет, чему поучиться: у хорошего человека будет учиться доброму, а плохой поможет ему понять, как не нужно поступать. Подобное «учение от жизни» (идеал учения по признанию самого Конфуция) как раз предполагает расфокусированность, экс-центричность видения, открытость динамизму жизни и, как уже было сказано, сведение восприятия к нюансам, в широком смысле – декоруму вещей. Внимание к непосредственному восприятию мира питает эстетическое отношение к действительности, а в психологическом плане соответствует детскому видению мира свободного от организующего субъекта. Отсюда, надо думать, настойчивая апология «детского сердца» в китайской традиции. Впрочем, в ней нет ничего наивного и незрелого. Эволюция художественной формы всегда характеризуется смещением акцента от общей идеи к деталям и декоративности, выступая тем самым параллелью повышению чувствительности духа, просветлению сознания.
«Рассеянное» мировосприятие на Востоке, как и логико-грамматический порядок европейской мысли, тесно связаны с особенностями соответствующих языков. Как известно, в фонетике языков Китая и Юго-Восточной Азии очень важную роль играют модуляции тона, а их грамматика отличается скудостью и размытостью синтаксиса, отсутствием четкой границы между частями речи и предложения. Стилистически китайские канонические сочинения представляют собой собрания афоризмов, притч и анекдотов, которые указывают на невысказанный смысл или наоборот, сводят его к семантике отдельных слов, как в известном изречении Конфуция: «Отец да отцовствует, сын да сыновствует…» и т.д. В даосской литературе тот же мотив выражен в негативной форме: «сокрыть сокрытие», «потерять потерю» и т.д.
Другая центральная философема восточноазиатского мировоззрения – иерархическое двуединство, различие без разделения матери и ребенка: в отличие от патриархального строя иерархия здесь имманентна природе вещей, и назначение всего сущего – вернуться в материнское лоно всеединства, устранив вертикальную ось отношений господства и подчинения. Идеальные отношения на Востоке выражены в формуле (близкой христианству): «и учитель, и ученик». Как совмещаются исходное равенство всего сущего и иерархия состояний бытия? На Востоке это достигается молчанием и ссылкой на «чудесную утонченность» самой реальности. Здесь ум уже бессилен. На высших ступенях познания, как говорил Конфуций, познавать следует «молча на ощупь».
Иероглифическая письменность предъявляет наглядный образ резонансного, энергетически насыщенного, интерактивного и притом целиком внутреннего пространства, где отношения между вещами важнее самих вещей, и именно они представляют первичные сгустки смысла. Самое понятие иероглифа в Китае толковали (основываясь на его графическом образе) как «размножение потомства под крышей дома». «Письмо – это рассеивание», – говорится уже в первом китайском сочинении об искусстве каллиграфии (2 в.н.э.). Как всегда в Китае, это суждение можно понимать буквально: писать иероглифы кистью – значит разбрасывать линии и пятна в горизонте неопределенного единства или, как говорили в Китае о гениальных каллиграфах, «разбрызгивать тушь». Но само разнообразие мнений, как совместная жизнь индивидуально очень разных членов семьи, есть, по сути, естественное и даже необходимое расширение расфокусированного и, следовательно, всеобъемлющего, всевместительного взгляда на мир и его смысл. Этим отношением к миру обеспечивается устойчивость традиции. (Кстати, отчасти похоже на современную практику контролирования сознания посредством мультипликации заведомо неравноценных «новостей», создания «облака», «марева» полуфикции-полуправды в СМИ.)
Интересная иллюстрация к сказанному – текст даосского канона «Дао-Дэ цзин» и его судьба в комментаторской традиции. Автор канона говорит афористическими иносказаниями, которые получают жизнь от собственной границы, стирают и нередко даже пародируют себя, обращаются в молчание. Перед нами только видимость стиля: квазиименование, квазидискурс, квазипоэзия. Назначение этого текста – не сообщать, а освобождать слова от прилипших к ним значений, чтобы приобщать к имманентной переменчивости смысла – прообраза внутреннего динамизма жизни. Эта установка позволяет автору канона, как выразился английский переводчик А. Уэйли, «с беспечностью пьяного перешагивать через пропасти, разделяющие ряды значений». На самом деле мы имеем дело с предельно трезвой и строгой критикой суждения. Примечательно, что найденные в последнее время древние версии «Дао-Дэ цзина» сделали его понимание еще более сложным, а возможность создания идеального, учитывающего все тонкости оригинального смысла перевода – еще более призрачным. Но тем самым они неожиданным – хочется сказать, провиденциальным – образом внесли весомый вклад в развитие того, что можно назвать герменевтикой откровения. Ибо, если образом реальности как родовой полноты бытия является «рассеивание» смысла, откровение жизни должно предстать чистым различием вне оппозиций, вечнопреемственностью внутреннего разрыва в опыте.
В свете сказанного ключ к философскому пониманию учения дает теория дифференциальных отношений великого синофила Европы Лейбница. В наше время она нашла талантливого продолжателя в лице Ж. Делёза. Последний в чисто восточном духе подчеркивает примат учения над знанием. «Учиться, – говорит Делёз, – значит проникать в универсальность связей, образующих Идею, и в соответствующие им особенности». Так, понятие моря, по Лейбницу, относится к системе дифференциальных отношений, составляющих «систему» моря, и эта система воплощается в реальном движении волн. «Научится плавать, – продолжает Делёз, – значит уметь сопрягать выдающиеся точки нашего тела с особенными точками объективной Идеи ради образования проблемного поля». Но это сопряжение всегда «происходит в бессознательном», устанавливая «глубинное сообщничество между природой и разумом». Учение, таким образом, не ведет к ясности знания. Напротив, оно культивирует расхождение отдельных рядов значений. Если твердость в самопознании требует сопряжения между природой и разумом, то достигается она ценой известной умственной растерянности или, как говорил Розанов, «распускания себя».
Что такое «проблемное поле» как истинный предмет учения, о котором говорит Делёз? Не что иное, как континуум (отсутствующий) дифференциальных отношений, благодаря которому учащийся может возвести себя (свое индивидуальное тело) к мировому всеединству – подлинному «телу учения». И он достигает этого посредством потери, оставления себя. Учащийся удостоверяет вечносущие качества своей жизни через умирание, уход, которые равнозначны решимости вверить себя всеединству, пресуществить себя в родовую полноту бытия. Это преображение локализуется в разрыве, зазоре в опыте, которые короче самой короткой длительности доступной осознанию. В нем исчезает противостояние разума и тела, сознания и жизни. Этот момент равнозначен индивидуации, которой принадлежат и духовное, и телесное существование.
Таким образом, в учение вовлечены, и притом в равной степени, как разум, так и тело, и оно предполагает воспитание целостного отношения к миру (что в «Дао-Дэ цзине» именуется «бережливостью» и «хранением центрированности»). Учение здесь означает прежде всего повышение и как бы одухотворение естественной чувствительности тела, опознание все более тонких различий в опыте, что предполагает развитие способности предвосхищать явления: мудрец в «Дао-Дэ цзине» умеет «развязывать узлы жизни прежде, чем они завяжутся». Разумеется, это именно учение с его строгой дисциплиной и тщательно выверенной методикой. Оно вырабатывает определенные телесные и духовные навыки, но его оправдание и смысл заключаются не в приобретении предметного или, как еще говорят, инструментального знания, а в постижении подлинности своего существования – единственная цель учения способная доставить учащемуся экзистенциальное и моральное удовлетворение. В Китае эту способность знать, испытывать подлинность своего бытия называли «гунфу». Последнее имеет нечто общее с любым искусством или мастерством: способность к необычайной умственной сосредоточенности, комплекс навыков, доведенных до автоматизма и тем самым освобождающих сознание от обремененности содержанием опыта, и проч. Однако оно принципиально отличается от искусности как таковой. Канатоходец или вор могут обладать необыкновенной умственной концентрацией и обостренным сознанием цельности существования, но у них нет гунфу, ибо то и другое является для них только техническим средством и не проникает глубоко в толщу жизненного опыта. Напротив, в гунфу «оставление себя» или, другими словами, открытость зиянию бытия имеет абсолютное, бытийное значение, а технические приемы в его свете случайны и вторичны.
Учение в описанном здесь смысле основывается не на методах познания, а на чистой бытийности, которая как раз не может быть предметом знания. Оно созидает не знание, а особую культуру с ее комплексом нормативных практик, прежде всего – ритуалов. Конфуций во время посещения родового храма правителя царства расспрашивал о назначении каждой увиденной им вещи, а на недоуменные вопросы его спутников, не ожидавших такого невежества от великого эрудита, ответил: «Вот так и надо вести себя в храме предков». Учение здесь имеет только один прием, отменяющий все приемы: «оставление себя». Тому, кто все оставил, останется весь мир в его спонтанном и, следовательно, без выправления правильном состоянии. Делёз называл этот подлинно чудесный феномен «пассивным синтезом». Лао-цзы говорит о «недеянии», благодаря которому все свершается.
Как известно, в языках Дальнего Востока понятия семьи и школы обозначались одним словом. Речь, конечно, не идет о логическом тождестве, которого восточная мысль не знала вовсе. Семья и школа составляли определенное иерархическое двуединство. Семья представляет скелет, всеобщую матрицу мирового порядка или того, что можно назвать всевместительной совместностью вещей. Она служила прообразом и религиозных сообществ, и торговых домов, и профессиональных корпораций, и даже преступных шаек. Но семейная общность имеет свои жесткие границы. Место индивидов на генеалогическом древе и даже их роль в семейном укладе остаются неизменными и не затрагивают их личных качеств. Оценка последних ограничивается соблюдением или несоблюдением индивидами правил семейного или кланового общежития, а их личные заслуги и тем более усилия в духовном совершенствовании учитываются в очень малой степени. Возможность раскрытия индивидуальных способностей и духовного роста предоставлялась именно школой. Человеческая индивидуальность в Китае была впервые открыта именно в школе Конфуция. Таким образом, школа как бы вырастала из семьи и давала завершенность семейному быту или, говоря языком китайской традиции, формировала «семейный дух» (цзя фэн). Вне школы семья теряла духовные основания своего уклада, а школа вне семьи лишалась организационной основы. Одно удостоверяло и восполняло другое.
Между тем сама идея личного совершенствования в Китае тоже развивалась в рамках определенного методического двуединства. Конфуцианство делало акцент на моральной стороне человеческой совместности и проповедовало интериоризацию морального идеала в телесной практике. Конфуцианский человек – «благородный муж», который благодаря его безупречной учтивости и столь же безукоризненной образованности организует общественную среду вокруг себя, что на Востоке означало прежде всего: утверждает принципы семейного и родового уклада. Патриарх даосизма Лао-цзы доводит до предела мотив «оставления себя»: он возвращается к первозданной спонтанности жизни, отказывается от идентичности, развивает в себе способность к «сокровенной сообщительности» и в итоге видит ближнего в каждом живом существе. Оба подхода, несмотря на известное соперничество между ними, в действительности дополняли друг друга. Их объединяло отношение к учению как личностному росту, открытию новых качеств своего существования, одним словом – момент постижения, экзистенциального прозрения. Недаром Конфуций говорил, что «внизу учатся, а вверху постигают». Когда мы вдруг узнаем, что такое плавать, водить автомобиль и тем более любить ближнего, мы как будто обретаем новое «я» и по-новому видим мир. Мы меняемся. А в подлинном учении мы узнаем, что значит жить – и обретаем новую жизнь.
Каждый раз, открывая в себе новое видение и новые способности, мы расширяем горизонты нашего видения и все яснее сознаем, что живем совместно с другими. Цель подлинного учения – создание сообщества свободного и даже, точнее, взаимно освобождающего дружеского общения, в котором усилия каждого открыть себя миру принадлежат всем и, более того, порой находят завершение в достижениях других. Жизнеспособное сообщество не может не быть школой, где каждый учащийся достигает, поистине, «сверхсвободы» в живой совместности, т.е. совместном доведении до полноты и завершенности его заветных чаяний. Вот когда учение становится синонимом жизни осознанной, сознательно прожитой и возведенной на высоту родовой, вечноживой полноты существования. Эта сверхсвобода превосходит и свободу индивидуального выбора, и свободный отказ от субъективного произвола в аскезе нормативного действия (хотя включает в себя и то, и другое). Моменты сердечной встречи, духовной сообщительности суть те непреходящие узелки опыта, «скрещенья жизненных путей», из которых происходят типовые – надличностные и надвременные – формы культурной практики, каковые составляют материал для обучения всем искусствам и наукам. Эти нормативные жесты и школьные наставления являются своего рода инвариантом индивидуальных устремлений, чувств и мыслей. Ими обеспечивается преемственность школы и возможность объективной оценки успехов учащихся.
Но что есть «сердечная встреча», составляющая подлинную основу учения? Это встреча, в которой обоюдная уступчивость создает пространство совместного личностного роста и совершенствования. Она же является отправной точкой философии. «В мире есть нечто, заставляющее мыслить, – пишет Делёз. – Это нечто – объект основополагающей встречи, а не узнавания». Эта встреча, которая воспитывает «нежное отношение к бытию» (Е.Л Шифферс), заставляет доподлинно ценить ближнего. В ней различимы три основных уровня, соответствующих последовательным стадиям повышения чувствительности и прояснения сознания. Первый уровень – физическое воздействие, второй уровень – взаимодействие психосоматическое, третий уровень – духовная встреча, не имеющая видимых признаков и завершающаяся полным оставлением форм, образов и идей.
С точки зрения предметного содержания встречи ее низший, первичный уровень представлен, как уже было сказано, случаем, событием как таковым, и он исчерпывается актуальной ситуацией. В таком случае событие становится условием и морального прозрения, и стратегического действия.
На более высоком уровне мы имеем дело с актом «следования» некоему примеру или образцу. Временной горизонт существенно расширяется, и «текущий момент» приобретает характер «длящейся вечности». В китайской традиции это выражено в устойчивом словосочетании «древность-современность» (гу-цзинь), что следует понимать, – если позволителен такой tour de force – как «древность современности» – некий китайский аналог «памяти настоящего» у Ш. Бодлера. Сказано по-своему очень точно, ибо искусство встречи предполагает способность предвосхищать происходящее. Одновременно достигают завершенности как моральное знание (в виде знания образцов добродетели и порока), так и стратегическая хитрость.
Еще более высокий уровень соответствует упреждающему действию, инициативе моральной или стратегической. Это уровень творческого созидания духовной сообщительности посредством именования качеств жизненной встречи (в виде упомянутого выше репертуара типовых форм практики). Речь идет, по сути, о типах ситуаций и качествах сил, по определению вечносущих и образующих континуум вселенской «единотелесности».
Высший уровень – собственно «тело всеединства», «тело человечества», в котором находят завершение и достигают высшего расцвета индивидуальные жизни. Оно не имеет ни свойств, ни признаков, но воплощается в бесконечной действенности, присутствующей во всех конечных действиях.
Ясно, что разговоры о реформе образования и инновациях в обучении не затрагивают существа дела и будут служить только, как выражался А.Макинтайер, «бюрократической фикции эффективности», пока не будет поставлен вопрос об учении как пестовании сознательной и совместной жизни или, можно сказать, жизненности жизни.