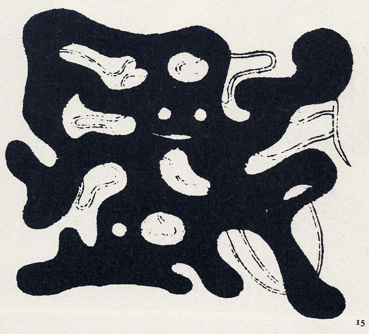Как понять Китай
Знаем ли мы Китай по-настоящему? Где лежат различия между западным социумом и китайским обществом? Почему мы не владеем стратегической инициативой в отношениях с Китаем?
«В Китае всё: и власть, и мораль, и философия, вообще жизнь носит стратегический характер. Всё, что китаец не делает, работает на определенную стратегию», — Владимир Малявин, профессор Тамканского университета (Тайвань), доктор исторических наук.
Беседа Владимира Малявина с Александром Приваловым в программе «Угол зрения» (Эксперт-ТВ)
— Здравствуйте, господа. Говорим сегодня о Китае, о состоянии дел в Китае, о перспективах китайских дел, об отношениях между Китаем и Россией и их перспективе, говорим, безусловно, с лучшим специалистом в стране, с ведущим китаистом России, с профессором Тамканского университета, находящегося на Тайване, Владимиром Малявиным. Здравствуйте, Владимир Вячеславович.
— Здравствуйте, Александр Николаевич.
— Скажите, пожалуйста, вот, среди всего, что за последнее десятилетие здесь говорилось и думалось о Китае не официально, а среди живых людей, все равно ключевую роль играет желтая опасность. Мы их боимся, мы их не боимся? Нам их надо бояться? Нам не надо?
— Да—а. Ну что ж, тема это, конечно, довольно известная, я давно, кстати, ей занимался просто из личного интереса к ней. Тут вот что, фобии — это, конечно, результат незнания. Когда мы не знаем чего—то…
— Абсолютное невежество, да.
— … то мы боимся. Или, наоборот, рвемся в объятия. Они или братья, или враги. Вот какого—то среднего пути взвешенного не наблюдается. Связано это, я думаю, с глубинным, извините за такое все—таки, может быть, резкое слово, непониманием того, что такое Китай. Мы Китай по—настоящему не знаем, вот какая штука—то, хотя написано и сказано уж огромное количество слов. Не только мы, но и на Западе с трудом это все воспринимают.
— Да я нисколько не сомневаюсь, что дело—то не такое простое, как кажется, потому что масса сходств между нами, но гораздо больше различий, и в этом смысле у нас практически завязаны глаза. Вот, скажем, я в одном из Ваших интервью прочел, мне страшно понравилась мысль, что политику России по отношению к Китаю должны определять не политики, а философы. А что—то они не торопятся, никто же нам не объясняет с вашей стороны (китаистов, специалистов, знатоков их нравов и обычаев), вот, например, мы сейчас повадились сдавать в долгосрочную аренду господам китайцам большие площади на Дальнем Востоке. Мы этим приближаем поглощение нашего Дальнего Востока китайцами или отдаляем, мы же не знаем, а вы не объясняете.
— Ну, это вещь конкретная. Это не дело философа — объяснять, каковы результаты будут аренды. Дело ученого — объяснить, в каком виде, в какой форме Китай может выстраивать свои отношения с другими странами. Как он будет, говоря современным языком, глобализоваться.
— А он будет глобализоваться?
— Будет. Он уже глобализован. И очень даже. Китай более глобальная держава, чем Россия, с точки зрения технической оснащенности. Совершенно головокружительный прыжок, понимаете, из отсталого традиционного закрытого Китая в очень технически открытый Китай, что отнюдь не означает, что китайцы открыты миру действительно. Китай входит в мир. Да, он глобален, он всегда закрытый. Все равно. Это дракон, который таится в какой—то пещере. Почему? Я думаю, дело в том, что в Китае все: и власть, и мораль, и философия, в том числе, — вообще жизнь, как мы недавно поняли, я думаю, это главный результат синологических исследований за последнее десятилетие, носит стратегический характер. Или даже можно сказать стратагемный. Все, что китаец ни делает, он работает на определенную стратегию. А ведь что такое стратегия?
— Ровно этот вопрос, я собирался Вам задать следующим: почему у них всегда есть стратегия, а у нас никогда нет? Да—да, прошу вас.
— У китайцев есть стратегия, потому что она у них есть по определению. Она не может не быть. Ведь что есть стратегия, в чем суть стратегии, что отличает стратегическое действие от просто действия? Одна простая вещь. Стратегия — это то, что отличает нас от других. На самом деле. Она всегда содержит какое—то иное внутреннее и скрытое измерение.
— Стратегия, прежде всего, отражает наше, может быть, неверное, но внятное понимание того, кто мы, чего мы хотим.
— Это, я думаю, может быть, не так все просто, но важно учесть то, что все внешнее есть только прикрытие для этой стратегии. Не потому что люди такие хитрые в Китае, не потому что они такие коварные, хотя европейцы так и думают (кстати, не только мы, и американцы в том числе), а потому что все, что мы говорим, и все, что видно, и все, что существует, и все, что понятно, это только прикрытие или след внутренней реальности, которая не может быть выражена непосредственно. И китаец так воспитан. Это означает также, что эта реальность, какая бы она ни была, она всегда дана как нечто предвосхищающее, предупреждающее внешне. То есть стратегия — это какое—то подполье, какая—то подпольная жизнь или подпольный мир.
— А как они друг с другом о ней договариваются, если она такая подпольная?
— А они знают, что это есть. А вот, как русские договариваются между собой. Ведь европеец никогда в ум не войдет, а как же это мы ладим друг с другом, как это происходит все в России?
— Нет, одно дело ладить друг с другом, а другое — добрести до общей стратегии. Как это сделать неэксплицитно?
— Потому что китаец знает точно свою нишу и свое место в этом…
— Каждый китаец и Китай как целое?
— Каждый китаец воспитан так. Вплоть до того, что, конечно, он живет по этим правилам настолько строго, что там, если бы я это сейчас рассказывал, было просто бы смешно. Каждый знает свое место и свою роль в обществе, он принимает это, ну, с нашей точки зрения, совершенно бездумно. Порознь вроде бы все обычные люди, а вместе это оказывается большой силой, потому что они работают на систему.
— Видите, какая беда, я бы понял в меру сил и понял это объяснение, если бы речь шла о сравнительно стабильной ситуации. Они сделали за последние несколько десятилетий феноменальный рывок. Все изменилось. Значит, в частности, изменились роли, которые они играют в своих традиционных нишах. Как они об этом договариваются, как это делается?
— Они, эти роли, сохраняются на самом деле. Вот, есть вещи, которые в Китае неизменны. Китай поднялся, как я сейчас вижу, я вот только что вернулся из Китая, и кажется, наступил последний уже прорыв в моем понимании Китая. Так вот, они используют свое топливо, какое—то духовное или душевное. Да, формы западные. Китай более западная страна, развитая, чем Россия. Поезжайте в Китай, посмотрите, все города покрыты небоскребами…
— Имеются в виду большие города, а не село?
— Ну, и село уже другое. Там нет старых домов нигде, вообще ни одного старого дома я не вижу в деревнях. Все дома постройки, там, 10—20—летней давности, за исключением тех, которые оставлены как музеи. Это очень важно. Инфраструктура, я не говорю о предприятиях. Все то, что делает государство современным. Да, они могут все время развиваться. Но как? Что я имею в виду, когда я говорю о топливе. Во—первых, каждый знает, что существует выраженное и невыраженное, видимое и невидимое. И каждый знает, как совмещать и как вообще оперировать и лавировать, маневрировать в этих двух измерениях. Говорим одно, подразумеваем другое. Это очень ловко.
— Секундочку, весь Советский Союз так и жил, и чего?
— Ничего подобного. Потому что у нас была идеология дубовая, плоская.
— Была идеология дубовая, была настоящая жизнь, и все лавировали между идеологией и настоящей жизнью.
— Да, сейчас Китай стоит на идее гармонии. А что такое идея гармонии? Каждый, извините, в этой гармонии, как голос из хора имеет свою уникальность. Никто никого под общую гребенку—то не стрижет.
— Ну, видите, вы рассказываете какую—то совершенно уже идиллическую картину, в то время как люди пишут, там, о тысячах земельных бунтов при китайской деревне, о том, что нарастает социальная напряженность, как только тормозится экономический рост. Никакой особенной гармонии—то в газетах не видать.
— Мы говорим о разных вещах. Я говорю о вещах, которые поддаются только большим величинам. Народная душа. Ни один человек не может ее представить, да? Кабинетный ученый никогда ее не поймет. Национальный характер то же самое. Давайте все—таки будем говорить о тех реальностях, условимся, которые не видны на самом деле, которые очень трудно распознать, даже и ученому, который десятилетиями пытается это понять. Просто потому, что он один индивидуал, и он вольно или невольно пытается измерить своей рациональностью. Я вообще не поклонник, отнюдь не какой—то горячий, там, синофил, во мне нет этого. Собственно, к китайцам я отношусь довольно индифферентно. Там есть хорошие и разные люди, что тут говорить.
— Как везде.
— Как и везде. Я вообще чужд вот такого рода возвеличивания. Просто понять, в чем дело. Мы говорим о том, почему Китай сделал такой скачок. То, что там есть конфликты, что есть проблемы, да, ради Бога, где их нет—то. Сколько угодно. Если бы мы сейчас пошли хоть ту же Швейцарию изучать, там, наверное, тоже не меньше земельных конфликтов, чем в Китае, если так посчитать. Я думаю, не в этом дело, не в самом факте как таковом. А дело в том, что каждый знает, что такое выраженное и невыраженное, что такое маневр. И самое главное, ведь Китай стоит на особом типе социальности. Вообще не только Китай, и в этом их тайна — вообще вся Восточная Азия, это другой вид социальности, нежели тот, к которому мы привыкли и который нам дает Европа. Это социальность, ну, в общем, вроде первозданная. Это социальность сообщительности чистой, еще до того, как вы и я вообще явились в этот мир как личности, как индивидуальности даже. То есть сначала мы вместе, мы в гармонии, а уж потом мы порознь. А не наоборот, как в либеральной теории. Вот, я оформился как гражданин и личность, а теперь я заключаю с вами договор как самостоятельная или несамостоятельная, начинаю и так далее… Ну, я упрощаю, но тем не менее.
— Совсем упрощение.
— Ну, как, упрощение. Может быть, Вы скажете, в чем я принципиально неправ. А вот у китайцев нет. У китайцев мы уже сходу втянуты в сообщительность до того, как мы начинаем вообще разбираться, кто есть кто и что есть что. В этой сообщительности каждый выполняет свою роль, в ней не может быть равенства. Вот, между прочим, корни китайского авторитаризма. Потому что эта сообщительность стоит на том, кто больше имеет душевного покоя, кто более чувствителен по отношению к миру. Нам это кажется дикостью, но ведь китайская традиция…
— Нам это кажется не столько дикостью, сколько волшебной сказкой.
— Ну, тем не менее, китайская цивилизация проявляет такой норматив, вот и все. Вот мы должны так жить, хорошо это или плохо. И он стоит на глубоких очень основаниях в человеке, на мой взгляд. Не менее глубоких, чем европейский индивидуализм.
— Так, видите, какое дело, Владимир Вячеславович, вопрос, естественно, возникает вот какой. Вот эта ураганная вестернизация последних десятилетий, она ничего этого не поколебала, не поменяла?
— Не поколебала.
— Как это может быть?
— Могут быть разные точки зрения. Я склоняюсь к тому, что в основе своей пока даже на Тайване это не поколеблено. Почему? Да потому что это эффективно, вот и все. Это другой образ человека и человечности, не тот, к которому мы привыкли, да, но это тоже человек. Это тоже человечно. Не менее человечно, чем европейские образы человека. Я, конечно, немножко утрирую, подчеркиваю их отличие, но важно это иметь в виду. То есть это такая же реальность, а может, более глубокая, чем эти права человека или душа христианская…
— Совершенно бесспорно. Но ведь вестернизация, кроме всего прочего, мы это ощущаем и здесь и, собственно, везде это происходило, на всей планете, она включает в себя очень агрессивную экспансию массовой культуры. Которая в принципе несовместима с тем, что Вы сейчас нам рассказываете. Она полярна тому, что Вы сейчас говорите. И этот натиск массовой культуры никакого действия не оказывает?
— Не оказывает. Да, она есть как среда, и она везде плывет, плавает в воздухе, нужно понять, что это есть такой инертный газ. Она сама по себе идеологически никак не заряжена. Она не структурирует социальное поле в Китае. Это поле структурируется на других основаниях, вот и все. То, что это развлекалово такое, ну, что ж тут плохого? Вся китайская культура стоит вообще на идее игры и развлечения. Ведь игра — это уподобление себя чему—то, как дети играют. Китайцы таковы. Мы уподобляемся, мы уподобляемся чему угодно. Сейчас они уподобляются американцам — это нормально, бренды европейские они имитируют. Мы можете сказать, а где китайские бренды? Их нет, а может быть, вообще никогда не будет. Китайцу этого не нужно. И он удовлетворяется вот такого рода имитацией или уподоблением. Нам кажется это странным, ну вот, это же вроде как бы низкое занятие, давайте что—нибудь оригинальное сделаем. Нет, не обязательно. Потому что уподобление есть способ самосокрытия себя. Когда я играю во что—то, я скрываюсь. Актер, играющий свою роль, на самом деле скрывает свою личность, не надо забывать об этом, он выдает себя за другого, и так ловко, что все ему аплодируют.
— В данном контексте, скорее, другого за себя.
— Но, тем не менее, как таковой да, он все—таки выдает себя за другого.
— Все это замечательно интересно, просто не очень…
— Понятно, да?
— Не очень понятно, как это сопрягается с чтением повседневных новостей? Вот, то знание, которое Вы нам сейчас вкратце рассказали, как его сочетать, например, с тем, что вот за последние несколько месяцев, может быть, несколько лет Китай как будто включил какой—то верньер и активизировал все мыслимые территориальные претензии ко всем, кто вокруг.
— Да.
— Как это сочетается с тем, что Вы только что нам рассказали?
— Дело в том, что Китай есть все—таки мир за Великой стеной. Потому что он стратегический мир…
— Имеется в виду не только эта стена, вообще стена.
— Он обязан быть таким. Посмотрите, Китай в Совете Безопасности скрывает себя, он всегда воздерживается от голосования, только если речь не идет о его, ну, совсем кровных интересах. И не пускает себя. Попробуйте, заденьте его хоть немного. Китаец моментально встает на дыбы. То, что Россия, скажем, не делает, например, так относится прохладно к чему—то там, к ущемлению своих интересов, Китай этого не сделает. То есть он всегда скрывает. Это часть его стратегии просто принципиально. Он никогда не может открыться до конца, вот это надо понять. Соответственно китайское общество тоже несет в себе это начало, начиная с китайских властей, которые не видны народу, и не надо их видеть, потому что они стратегические. Поэтому в этом смысле открытой демократии быть не может, а есть демократия ритуала. Ритуал тоже демократичен. Вот церемония, вот они в этом русле они вполне обосновывают и преемственность власти, и, кстати, понятие справедливости. Коррумпированных чиновников казнят тысячами в Китае, то есть партия несет в себе какой—то принцип справедливости публичный. А это очень важно для… как Вы понимаете. Я уж не говорю о важности этого дела. И так далее. Вот, но все—таки, в конце концов, вы знаете, что меня больше всего поразило. Я только что вернулся из юго—восточного Китая, был в деревне, очень глухой такой, заповедной такой деревне, где национальный парк рядом с городом Вэньчжоу, и там вот интересная вещь. Во—первых, в Вэньчжоу совершенно особая группа китайцев, хотя они китайцы. То есть они по виду совершенно не похожи на других, у них особый диалект, который нельзя записать иероглифами, многое другое, и одно из их… они знаменитые коммерсанты, между прочим. Вот, у меня есть книга, которая называется «Вэньчжоуэц думает не так, как ты. И в этом его успех». А это стратегия, между прочим. Потому что великий стратег есть тот, кто думает не так, как другие. Поэтому он побеждает. Нельзя стать стратегом, думая так. Кстати, принцип китайской жизни — думать наоборот, это отдельный вопрос, он имеет очень глубокие духовные корни.
— Итак, Владимир Вячеславович, чем эти особенные китайцы вас поразили?
— Интересно то, что там много христиан. В каждой деревне христианская церковь.
— Это именно в этом юго—восточном…
— В этом регионе, не знаю уже почему. Потому что они не такие, как все китайцы. Хорошо. Я поговорил с этими христианами, и был совершенно ошеломлен, вы знаете. Во—первых, они брызжут оптимизмом. Они не знают…
— Так это правильно.
— Это правильно.
— Христианин — тот, у кого всегда хорошее настроение, да. Да.
— Совершенно верно. При этом, например, они вообще ничем больше не интересуются, кроме христианства. Говорят, верьте в Христа и все. Вы там чем—то занимаетесь, каким—то… зачем? Все это, это китайское. Они выбросили за борт все китайское, запросто. Им это ничего… Конфуций, Лао—цзы — им это ничего, пустое место совершенно. Вот, Христос — это да. Но они, конечно, протестанты, вот в таком душевно—взвинченном состоянии находящиеся. Но дело в другом. Они, они брызжут оптимизмом, очень живые. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что этот запас прирожденного китайского оптимизма, врожденного китайцам, может преломиться даже в христианство. Это интересная вещь, они могут быть очень убежденными христианами, оставаясь китайцами вот в этом качестве. Но что означает этот оптимизм? Они относятся к миру и к технике, например, к технической цивилизации не так, как мы. Они сохраняют целостность отношения к жизни. Для них техническая практика — это, прежде всего, очеловеченная практика. Она цельна, как говорил Лао—цзы, великий резчик ничего не разрезает. Значит, они живут так, чтобы сохранить фокусированность и полноту внутреннюю своей жизни. Конечно, можно сказать, что они крестьяне, я не могу взять мотыгу и так работать, как сын земли, там, копаться в огороде с утра до вечера. И больше ничего, допустим. Их больше ничего не интересует. Но вот, вот я вдруг увидел, откуда берется энтузиазм. А что такое энтузиазм? Мы привыкли думать, что это какая—то вера в идею. Нет, это просто здоровое и радостное переживание полноты жизни в себе, между прочим. Вот за это, вот так они мотивированы, а не тем, что кто—то их коммунизмом там их прельщает или чем—то еще. Они уже при коммунизме живут на самом—то деле. Вот такие вот дела.
— Умеющий довольствоваться всегда будет доволен. Хоть при коммунизме.
— Это, кстати, вы почти цитируете Лао—цзы.
— Я старался.
— Да, это фраза из «Дао дэ цзина».
— Владимир Вячеславович, в таком случае модные у нас, иногда более остро модные, иногда уходящие на второй план, но неизменно модные разговоры, что нечего было валять дурака и надо было идти по китайскому пути в 1990—е годы, судя по тому, что Вы нам рассказываете, просто бессмысленны.
— Бессмысленны совершенно.
— Ни по какому китайскому пути мы идти не могли, и не следует об этом даже говорить. Хотя я читал, не помню, правда…
— Нет, мы просто не можем пойти по нему. Ну, можно все, что угодно говорить, но пойти… но к счастью или к несчастью, мы не можем пойти и по европейскому пути. Это тоже факт.
— А я читал, что господа китайцы как раз в 1990—е годы, внимательно смотря на то, что делается у нас…
— Ну да.
— … весьма сильно корректировали свою политику.
— Конечно, конечно они сделали очень…
— Значит, для них это смысл имеет, а для нас это смысла не имеет. Смотреть на них и корректировать политику, нам не надо.
— Нет, почему? Мы же должны расширять свое понимание, что такое вообще есть человечество. Что человеческого в человеке. Китайцы тоже люди, как это ни странно.
— Это совершенно не странно.
— Нет, это странно. Потому что они очень непохожи на самом деле на нас. Очень большая ошибка была, как мы думали: вот, они такие, как мы, сейчас подучим их Марксу—Ленину, и они будут такие, как мы. Потом мы думали или американцы думали: вот, мы сейчас дадим им капитализм, и они будут, как мы. Ведь на это был расчет, когда они завязывали с Китаем вот эти капиталистические отношения. А вышло—то не так, как думала Россия и даже как американцы. Теперь американцы в недоумении — почему при либеральной экономике авторитарный режим. Действительно. Отвечаю. Потому что китаец в свете принципа сообщительности очень умеет обмениваться, он очень готов к обмену в любом виде, притом с чувством справедливости. Потому что для них обмен и коммерция — моральное занятие, потому что оно точно воспроизводит отношение гармонии и сообщительности, которые они впитывают с молоком матери. Но сообщительность, мир сообщительности — это не предметный мир, это не предмет научных понятий или концепций, он может быть только символически обозначен. И вот здесь возникают символические формы и иерархия, которую курирует компартия. Поэтому получается, что на базе …
— Поразительно интересно.
— … либеральной экономики очень может легко возникнуть авторитарный, он и есть авторитарный, он не возникает, он всегда есть…
— Что значит возникнет? Продолжаться.
— Всегда есть на этой базе. И снять это нельзя. Потому что иерархия остается, американцы никак не могут этого понять. Они же… все же люди равны — это так по американской Конституции.
— Ну, они равны… Ну, ладно, не будем.
— Нет, я понимаю. Здесь вопрос принципиальный. Нет, люди принципиально не равны. Не потому что они отличаются друг от друга. А оттого что кто—то более чувствителен, чем другой. И я это отлично понимаю. Потому что если вы займетесь китайскими боевыми искусствами, там, где все стоит на вхождении в покой и развитии чувствительности, вы поймете, что, допустим, ваш учитель, который с вами занимается вот такого рода спаррингом, условно говоря, вы не встречаете конфронтации, сопротивления с его стороны, и вам кажется, что вы имеете свободу, сейчас я размахнусь и ударю его. И вдруг вы видите, что вы не можете движение сделать, что каждое ваше движение гасится, как будто в вату попадает. А учитель стоит, улыбается вам. Ничего, почему я не могу руку? А я не знаю…
— Вот, давайте с этого места вернемся в политику. Так, нам бояться экспансии Китая, скажем, на наш Дальний Восток?
— В двух словах. Ну, если объективно, то вряд ли. Потому что Дальний Восток, с точки зрения физико—географической, не может представлять кардинального решения проблемы китайской перенаселенности и так далее. Поэтому, конечно, китайцы могут всегда взять любую территорию, если это будет возможно. Но риски они легко учитывают, они даже Тайвань не трогают. Потому что понятно, что никто так просто им не позволит что—то взять из другой страны. И они уже это понимают. Зачем? Сейчас другие методы и способы взять то, что нужно, без каких бы либо…
— Это правда.
— Это первое. Второе. Глобальность китайская никогда не будет ярко выражена, вот в чем дело. Она не будет иметь своего бренда или формы, за исключением, конечно, тех символических форм, которые Китай представляет. Мы все их знаем: Великая стена, Конфуций, какие—то там ушу, кунг—фу, мадзян, мебель, кухня — все понятно. Он распространяется в форме China Town. А что такое China Town глобальный? Вот, есть China Town в западных городах. Это Китай? Вообще непонятно что.
— Нет. Нет, это не Китай.
— Да, но это культурная фабрика по производству знаков китайщины, скажем так. То есть это такой виртуальный Китай, где Китаем торгуют как виртуальной реальностью.
— Ну, насколько я понимаю, в России они пока не очень распространены.
— Это потому что… вот это интересный факт, что только в России их нет. Но это связано тоже с какими—то глубинными особенностями русской идентичности. Я подозреваю, что Россия, русская идентичность настолько внутреннее противоречива, что китайцам даже невозможно кому—то противостоять. Понимаете? Они могут…
— А, то есть непонятно, на отражение от чего имитировать свои…
— От чего отталкиваться непонятно.
— Угу.
— Настолько проваливается, все разваливается вокруг, понимаете, если легкие воюют с почками, то не знаешь, на чью сторону встать, грубо говоря, понимаете? А это тоже принцип русской идентичности, понимаете, вот, отрицать себя.
— Я где—то читал, что Китай не может стать глобальным лидером просто потому, что в соответствии с их представлениями о своей роли, о роли Китая в истории, в человечестве Китай — это центр, у которого должна быть периферия, и должна быть для него нейтральная зона, которая ему просто неинтересна. Это так?
— Понимаете, Китай, по—китайски Срединное государство, — центр мира, действительно, но центр может быть и везде, вообще—то говоря.
— То есть совершенно необязательно…
— Китай очень способен к метаморфозе вот этих понятий. Тут он может так все преобразить, что этот центр может оказаться и в Лондоне. В принципе это возможно сейчас.
— У Вас нет ощущения, что завод кончается?
— Завод, Вы имеете в виду, у китайцев?
— Да, что вот этот вот многодесятилетний спурт…
— Пока нет еще. Пока нет ощущения. Хотя, конечно, падает ВВП, прирост и цифры, но китайцы сейчас переориентировались на внутренний рынок. Это тоже стратегическое решение. Они выполняют какие—то объективные установки, что они могут это сделать. Почему? Еще раз — они внутренне сплоченны, а мы, боюсь, нет, вот и все.
— Мы очень мало, что знаем о Китае, мы почти ничего не знаем о себе, но главное нам сегодня рассказали: они, китайцы, внутри сплоченные, мы здесь нет. Отсюда все остальное. Спасибо.
06 дек 2012