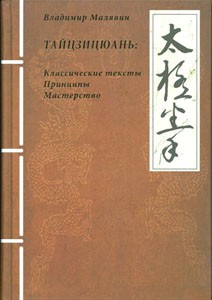«Чем душа полнится и помнится…»
Владимир Малявин
Антропология пограничья Максима Михалева
… И бойцу на дальнем пограничье.

Имя Максима Михалева еще практически неизвестно русскому читателю. Но я советую запомнить его и не пропускать подписанные им публикации. Максим еще скажет свое неординарное слово в гуманитарных науках. Его работы привлекают редким сочетанием эрудиции, страстного интереса к тайнам человеческой души и яркого литературного дара. Собственно, работ этих мне известны только две или, точнее, одна в двух версиях: англоязычной и русскоязычной. Последняя, впрочем, гораздо подробнее (1). Обе изданы в Пекине самим автором. Их тема – культурно-историческое значение областей, которые считаются «периферийными», а на самом деле являются скрытыми организующими центрами мира, в современном просторечии, – «местами силы»». Таковы Алтай, Памир, вообще окраины России, Китая и Монголии. Пишет Михалев в жанре путевых очерков, в которых путешествие оказывается поводом для разного рода наблюдений и открытий, всегда внезапных, как бы случайных. Эти вольные «полевые изыскания» не подкрепляются ни научным аппаратом, ни теоретическими рассуждениями, ни даже ссылками на других исследователей. Не просматривается в них и элементарной организованности. Автор путешествует наудачу, всегда на попутках, без всяких гарантий на успех, и это для него принципиально. В поле его «системно бессистемного» зрения попадается все подряд: особенности климата и рельефа, геополитические структуры, странности быта, фрагменты фольклора и религиозных верований самых разных эпох. Все эти темы вращаются вокруг одного мотива: места и значения периферии в жизни цивилизаций, чему соответствует и особая экзистенциальная перспектива – открытость сознания непостижимому, не поддающемуся упорядочиванию началу бытия, вечно ускользающей «инобытности» существования, скрытой в последней глубине жизненного опыта. Нечто столь же невозможное, сколь и неизбежное и даже больше: совершенно невозможное и именно поэтому абсолютно неизбежное, судьбийное. Этому мистическому переживанию «предела всего» в книгах Михалева посвящен не один вдохновенный пассаж:
«Как только грузовик покидает поселок, и его пляшущие огоньки исчезают в далекой степи, заканчиваются не только проблемы, заканчивается вообще все. Раскрываются врата мироздания , и на землю устремляется тишина, великая и святая. Тишина заполняет Вселенную, успокаивает сердце и отворяет глубины глубинные, высоты высотные, просторы просторные…
На Алтае меня уже много лет ждало то самое заветное, что я так настойчиво пытался обрести в землях дальних и ближних и что без устали искал среди самых высоких гор и на самых уединенных островах. Что-то, что мне суждено будет ухватить и сберечь; что-то, что дождалось сегодня моего возвращения. Оно, это подлинное и важное, прошедшей ночью приоткрылось мне сквозь покровы вечности и позвало к себе нежно и властно – и избежать своей миссии после его явления мне теперь не удастся…» (Среди хранителей знания, с. 98-99)
Такова исходная, глубоко личная отправная точка исследований Михалева: исследований не столько внешних явлений, сколько правды сокрытой в самом себе. Тут как раз тот случай, когда познание равнозначно духовному восхождению, поиску внутренней подлинности проживаемого. И это особый талант Михалева: искать истину по ту сторону нарциссических самообразов человека, которыми живет цивилизация, чувствовать в человеке его небесную глубину. Глубину человечности, поскольку нельзя открыть ее, не обладая тонким чувством гармонии, соотнесенности со всем, что есть живого в мире, и глубину человечества, поскольку речь идет об открытии бытийной полноты человеческой природы. Есть у этих поисков и своя «научно-объективная» составляющая. Михалев приходит к выводу о наличии в мире особых периферийных зон, цивилизационного пограничья, no man’s land не только в политическом, но и в культурном отношениях, пространства познавательных разрывов, «трещин в социальной структуре», некой «последовательности щелей, которые имеют свойство довольно быстро наполняться материей, по составу принципиально отличной от материи окружающих их субъектов» (Среди хранителей знания, с. 174). Догадка настолько оригинальная и ошеломляющая, что на протяжении всей книги мы так и не находим ответа на вопрос, какова природа этой, как выражается автор, «гостевой материи» социума. Лишь в самом конце выдвигается предположение, что мы имеем дело с «продуктами коллективного бессознательного», которые вырываются на поверхность жизни, когда социальные структуры не в состоянии их подавить. Этот вывод, впрочем, рождает больше вопросов, чем разрешает.
Куда более решителен Михалев в критике позитивистской науки и «механизации» сознания, закрывающих доступ к «небесным тайнам» жизни и превращающих человека в машину, пусть и с приставкой био. Его не интересуют логические процедуры исследования и «объективные» истины по той простой причине, что предмет его поиска доступен только актуальному переживанию и, в сущности, вовсе не поддается определению. Жанр трэвелога для Михалева – это не просто литературная форма, а отчаянно серьезная попытка добиться соответствия метода и предмета исследования. Спонтанность путевого дневника – прообраз свободы и динамизма духа в его неиссякаемой творческой мощи, вечной устремленности к иному. Повествование Михалева ценно и значимо для меня не представленными в нем фактами или даже оценками, вообще не открытиями, которых автор и не ищет, а откровениями, т.е., по сути, точным и по-своему полным воссозданием духовного опыта. Михалев – философствующий этнограф, который ищет в человеке, по его признанию, «то, чем душа полнится и помнится». Сказано не только красиво, но и точно: памятны в душе полнота ее свойств, творящая ее неповторимый, стиль или, еще точнее, ее внутренние свершения, в которых угадывается предназначенное ей совершенство.
«Разрушительному действию аналитического разума» Михалев противопоставляет символизм «гностического знания». Вот что он пишет об этом виде познания: «культура, выработанная жителями буферных зон, предоставляет в их распоряжение мощные и яркие символы, с помощью которых обычные люди могут самостоятельно проникать в глубины времен и смыслов, преодолевая порог восприятия, и ловить в свои сети то самое бесформенное и неуловимое нечто» (Среди хранителей знания, с. 272). И добавляет: такие традиции позволяют «не просто переживать, но и догматизировать свой опыт общения со Знанием». Не знаю, уместно ли говорить о догматах там, где речь идет об умении работать с материалом, пусть даже речь идет о материи души, но нет сомнения, что «эзотерические» традиции понятны лишь тому, кто сам пережил метанойю и развил в себе необыкновенную чувствительность духа. «Критическая рефлексия» в этом деле может играть в лучшем случае вспомогательную роль, а чаще является помехой знанию.
Первый очерк в книге о «хранителях знания» содержит описание путешествия с множеством остановок по дороге – озеро Светлояр (град Китеж), Тобольск, Байкал и проч. – к шаманам Бурятии, Монголии и Северо-Восточного Китая. В отличие от академического ученого Михалев не ищет «чистого» шаманизма. Он слушает и пытается понять всех подряд, даже служителей шаманистской «попсы» в современном городе. Выводы из своих вроде бы непритязательных наблюдений он делает неординарные: современный квазишаманистский комплекс обслуживает те внесистемные элементы, как в общественной, так и в психической жизни, которые не имеют официального признания. При этом положение шаманизма в России и в Китае неодинаково: «в Китае шаманизм пребывает вне социальной структуры и находится в пассивной оппозиции к ее институтам». Там шаманизм дезорганизован, аполитичен, обслуживает одиночек- неудачников. В России в условиях развала общественных институтов шаманизм стал активной и самостоятельной силой, во многих районах Южной Сибири приобрел даже статус официальной религии. В возрождении шаманизма в современной России Михалев усматривает действие своеобразного инстинкта самосохранения общества, что в очередной раз предъявляет противоречие: может ли асоциальная и даже антисоциальная сила быть опорой общества?
Останется ли общество «капсулой способной игнорировать мир или все-таки вынуждено будет открыть себя Вселенной?» – спрашивает Михалев, не пытаясь ответить на этот вопрос. Ответ действительно может дать только сама история, ведь мы имеем дело с противоречием между нормой и фактом, общим и частным, встроенным в саму структуру родовой организации и лишь случайным и вторичным образом проявляющимся в личных предпочтениях людей. Это противоречие, впрочем, очень редко проявляется со всей наглядностью. В Восточной Азии оно повсюду скрывается, рассеивается в многоступенчатой иерархии культов, где высшее положение занимает буддизм, за ним следуют квазинациональные религии (даосизм, бон, синто, тэнрианство у степных народов, бурханизм на Алтае, так называемые «новые» светские религии), а внизу располагаются квазишаманистские и откровенно оппозиционные, чисто локальные культы. Чем выше статус религия, тем меньше в ее идеале предметности природной среды и культуры, как легко видеть на примере буддизма с его метафизикой нирваны и шуньяты. Но пустота не противостоит материальному миру, напротив – предполагает его. Одно вмещает другое и, более того, держится им. «Пустота – вот форма». Безбрежное марево жизни в действительности удостоверяет небытийность всего. Отсюда глубоко укорененная предрасположенность жителей Азии к «синкретизму», их религиозная всеядность и нелюбовь к догматизму. Точно так же центр и периферия в азиатских империях не противостоят друг другу, а друг друга обуславливают и дополняют. Бытие империи есть избыточность сущего, безмерная сила жизненных метаморфоз равнозначная инаковости всего. Периферийность – среда свободного взаимодействия и смешения традиций, которая как раз вырабатывает чувство космополитического равенства людей. Она способна в равной мере питать как авторитарное, так и демократическое начала в обществе, чему лучшее свидетельство – расположенные на торговых путях оазисные государства Центральной Азии. Тот же буддизм – главная «духовная скрепа» империй в Восточной Азии – удачно соединял универсализм с периферийностью, надстраиваясь над национальными культурами, но нигде не подменяя их и даже отчасти оставаясь им чужим. Процитирую себя:
«Да, империя давит, но у нее обязательно есть форпост, своя Яшмовая застава, которая не давит, а дарит единственное достойное дарения: свободный полет духа. Даже даосский патриарх Лао-цзы написал свою великую книгу на западной погранзаставе, прежде чем раствориться в небесной дымке пустыни. Скажу больше: форпост империи выявляет скрытую пружину имперского уклада, каковая есть преодоление косного бытия в порыве творческой воли, восхищенность событием, свершением, которые никогда не есть, но всегда грядут. Ведь и своей аурой величия империя обязана тем, что живет предчувствием великого…» (2).
Между тем напрашивается вопрос: нет ли в отмеченных Михалевым различиях в положении «шаманизма» в России и Китае также указаний на какие-то сущностные родовые особенности двух этих цивилизаций? Давно замечено, что поиск жизненной «правды», оборачивающийся неприятием любого установленного порядка (что, впрочем. отлично уживается с интересом ко всем культурам), составляет отличительную черту русского менталитета и русской цивилизации, упорно отторгающей все условности рационального жизнеустройства. Характернейший факт русской жизни – дружба русского офицера Арсеньева с Дерсу Узала, причем Арсеньев разглядел глубинную человечность своего туземного друга именно в его «шаманистских» верованиях – факт немыслимый для представителя «просвещенной» Европы, а равно конфуцианской элиты Китая. Русская глубинка вообще живет небесной глубиной в человеке, и эта глубина только с большим трудом, через острые душевные кризисы и смятения уступает в русском человеке цивилизованной социальности и тем более стойко сопротивляется апофеозу этой социальности – нарциссическому потреблению. Примечательно, что для евразийского ареала характерно господство зооморфных мотивов, которые как раз препятствуют становлению нарциссического субъекта. Для Азии характерно сознание не антропоморфное, а так сказать, антропогенное, человекопорождающее или, как говорят в Азии, «антропофундаменталистское». В азиатских традициях миром движет «подлинный», «небесный» человек, отринувший все «слишком человеческое». С этой точки зрения нынешнее возрождение шаманизма в России можно считать свидетельством самобытного русского Ренессанса, проявлением еще неопознанного всемирного потенциала русской духовности.
Мы наблюдаем здесь схождение, сближение Востока и постмодернистского Запада. Разве не сказал Поль Валери сто лет назад, что «Европа кончит бесконечно богатым ничто»? Но есть здесь и свои острые коллизии, и Россия их особенно ярко демонстрирует. Вспомним, что пустыня – этот лучший прообраз цивилизационной и духовной «пустоты» – родственна в русской жизни понятиям пространства и мира вообще, но разными идейными лагерями оценивается противоположным образом: как признак отсталости России западниками или богатства ее духовной жизни славянофилами и евразийцами.
«Ночь тиха, пустыня внемлет Богу…»
Географически Россия есть гигантская периферия Европы и Азии, «пустое место» между двумя континентами (Даниил Андреев). Русский идеал, вечная утопия русского народа – это «милая пустынь», затерянная в бескрайних просторах России. А модернизация России превращает его в пародию на себя – технологический пустырь. Но эти метаморфозы изначально заложены в семантике пустыни, ведь пустынь-пустырь как вечно отсутствующее место, вездесущее не-место есть не что иное, как результат метаморфозы большого пространства, его инобытие. И примечательно, что любимые Михалевым места мировой периферийности – Алтай, Памир – являются также периферией России. Периферийность периферии – вот подлинный центр мира. И еще один любопытный факт: по геополитическим характеристикам России, пожалуй, ближе всего Тибет – периферия одновременно Индии, Китая и Монголии и вместе с тем, как Памир, крыша мира, но, в отличие от Памира, достойная называться «азиатским Римом», по определению Пржевальского.
Конечно, апология цивилизационного порубежья предполагает особую оптику и перспективу видения. Взгляд философа-путешественника (в конце книги даже появляется образ странствующего дервиша) принципиально несходен и даже, может быть, несовместим с взглядом тех, кто живет злобой дня или занимается исследованием того или иного предмета. Он представляет собой смелый вызов всему известному и понятному. Позиция Михалева зовет не в прошлое, а в будущее. В ней есть элемент романтической эстетизации, но он быстро рассеивается в тяготах путешествия по далеким окраинным землям, а главное – под требованием, глубоко этическим, метанойи, преодоления замкнутости индивидуального «я».
В конце концов, книги Михалева – суровый призыв к опознанию и, если можно так сказать, усвоению, приспособлению к потребностям духовного роста «императива периферийности». Несколько неожиданно они открывают новую глобальную перспективу для России как мировой периферии, скрепляющей мир, удерживающей его в свободном единстве и среди мертвенной скуки «постисторической» эпохи возвращающей истории ее ценность и смысл. Не знаю, насколько это можно считать достоинством, но что-то чисто русское в этом точно есть. Исповедь энтузиаста периферийных миров может принадлежать только русскому человеку и притом связавшему свою судьбу с Азией.
И последнее: та же китайская цивилизация указывает широчайшие возможности для переформатирования темы периферийности, ее перевода в психологическое, культурное и даже политическое измерения жизни. Это обусловлено уже центральным положением категории «пустоты», бескачественного «отсутствия» в китайской метафизике жизни. Нельзя не отметить, что и стратегическая инициатива в Китае, вверху причастная нравственно оправданной мудрости, а внизу смыкающаяся с хитроумием, умением действовать «по обстоятельствам» относится как раз к лакунам, пустотам, «трещинам» конвенционального знания. Без сомнения, именно глубокой интегрированности «знания пустоты» в общий социокультурный порядок китайский мир обязан своей необыкновенной устойчивостью. Почему в таком случае власть в Китае не признает современной шаманистской практики? Думаю, по той же причине, по какой она подвергает гонениям синкретические секты или не признает священников бон, не желающих смешиваться с буддистами. Речь идет о светских или имеющих четкую этническую маркировку религиях, оказывающихся в этом качестве соперниками власти в ее светском измерении.
(1) Mikhalev M. Outuo people: Bufferlanders and their weltanschauung. Beijing, 2014. Максим Михалев. Среди хранителей знания. Пекин, 2015.
(2) Владимир Малявин. Цветы в тумане: вглядываясь в Азию. Москва: Малявин и Ко, 2012. С. 98-99.