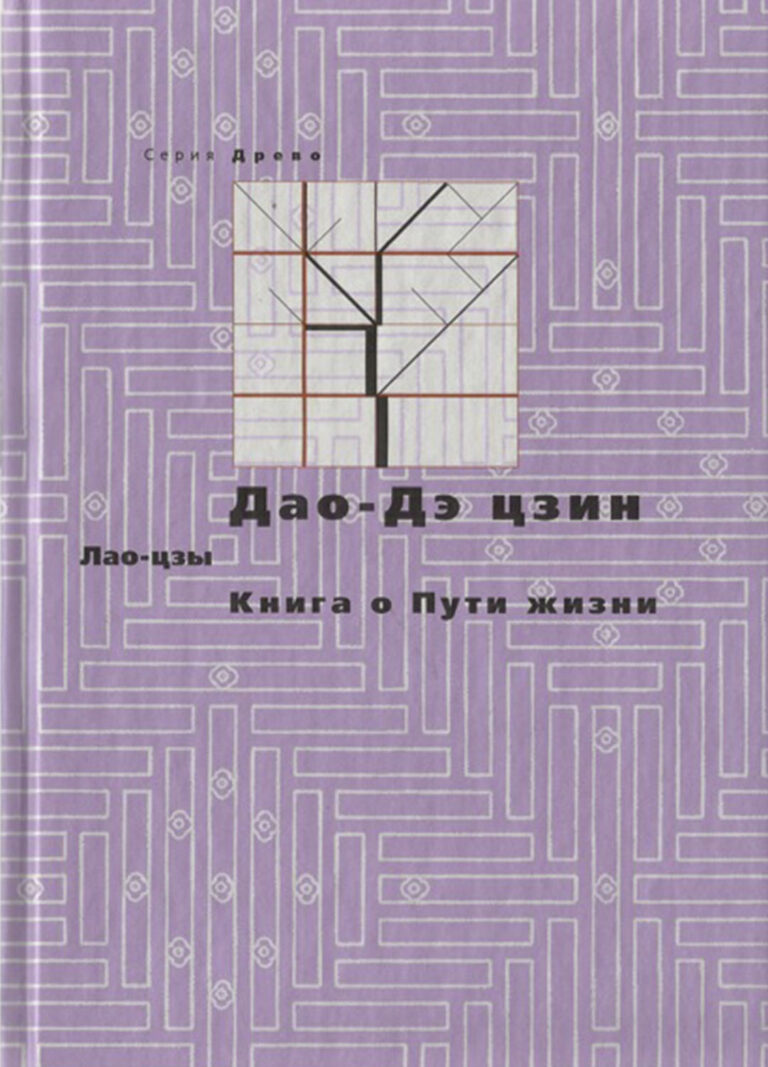Мудрецы и воины. О китайском понимании стратегии.
Владимир Малявин
Продолжаю публиковать отрывки из моей последней книги «Китайский этос, или Дар покоя». Книга выйдет в свет через один-два месяца. В.М.

Китайское представление о стратегической мудрости отчасти сходно с греческим понятием «хитроумия», смекалки (метис) как единства мудрости и хитрости: в обоих случаях суть «сообразительности» заключается в умении связать всеобщий порядок и конкретность жизненного момента. Как и метис, китайское хитроумие имеет в традиции несколько неопределенный статус: одни считали ее благородной мудростью, другие, хотя и меньшинство, низменным обманом. Как и в античном мире, в Китае примеры «хитроумия» предназначались не для подражания, что невозможно ввиду исключительности каждого случая, а, скорее, просвещения: они расширяли умственный кругозор и служили уроком эффективного мышления.
Тем не менее, китайское «хитроумие» в сравнении с греческим имеет значительно более широкий круг значений и ряд самобытных черт. Начать с того, что китайские авторы предлагают подробную классификацию видов «ситуационного разума» и расставляют их в иерархическом порядке согласно уровням понимания. Это черта общая для всей китайской литературы, ведь суть совершенствования в китайской традиции – возведение личного существования в вечносущий тип, обретение родовой полноты бытия. В одном из самых больших компендиумов такого рода, составленном в 17 в. Фэн Мэнлуном, к «высшей мудрости» отнесено полное совпадение мирового всеединства и отдельного случая. Таковы поступки тех, кто «видит великое», «видит далеко», умеет благодаря доскональному знанию ситуации упростить ее или способен найти выход из безвыходного положения. Следом помещены рассказы о тех, кто «провидел еще не проявившееся», «вникал в суть вещей» и т.д. За ними располагаются сюжеты о тех, кто добивался успеха благодаря тем или иным приемам. Как видим, для китайцев техницизм в поведении, что предполагает отделенность сознания от внешнего мира, прямо противоположен мудрости. Ибо мудрец, по китайским представлениям, не противопоставляет себя миру, а вмещает его в себя. Обладающий высшей сообразительностью, утверждает Фэн Мэнлун, «пребывает в согласии без размышлений, и этого не достичь даже тысячами мыслей»
Не имеет аналогов в западной мысли и центральная категория китайской стратегии, обычно трактуемая как «сила вещей», «потенциал ситуации», «стратегическое преимущество» (ши). Речь идет о конфигурации сил в «текущий момент», причем наибольшее значение в ней имеет виртуальный аспект, нечто неотвратимо грядущее. Задача правителя или стратега – уметь «создать ситуацию», «владеть ситуацией», «управлять ситуацией» (дэ ши, цюань ши), что значит: не применять насилия и вообще избегать конфронтации, воздействовать на обстановку исподволь, посредством само-оставления, предвосхищая события и постепенно укрепляя выгодный баланс сил.
Еще одна характерная черта китайской науки стратегии – акцент на ее нравственной значимости. Это касается уже происхождения мудрости. Фэн Мэнлун уподобляет знание воде – текучей, переменчивой, питающей все живое и к тому же скапливающейся внизу, в середине земли. Соответственно, учение он сравнивает с копанием колодца. Мудрость для него – результат долгого и упорного учения, а истинно знающие мужи – немногие гении, непостижимые для толпы. Однако различие между мудрыми и невеждами объясняется приобретенными благодаря учению широтой и зоркостью взгляда: первые замечают и чувствуют, а значит, понимают несравненно больше вторых. Вот почему мудрые внимательны к мелочам, но достигают больших результатов, а их действия всегда неожиданны для профанов. Здесь действует своя логика: чем больше мудрый убирает, превозмогает свое «я», т.е. чем больше его нравственное усилие, тем больше в мире морального порядка. «Люди жаждут успеха, а бестолковщины все больше. Я покоен, и все само собой выправляется», – высказывается Фэн Мэнлун в совершенно классическом духе и далее вспоминает даосскую притчу о мяснике-виртуозе, который разделывал туши быков ножом, «не имеющим толщины» (образ предельной сосредоточенности духа), так что нож свободно гулял в полостях туши: «Люди словно связаны по рукам и ногам и не знают, что предпринять, а моему ножу предостаточно места, где погулять». Итак, успеха добьется тот, кто воистину умалит себя в сердце, вернется к моменту творения мира, ибо он высвободит, пред-оставит в свое распоряжение безбрежное поле опыта и безграничное разнообразие способов действия. В этом пункте мудрый стратег подобен святому подвижнику, освобождающему себя от своего «я». Поскольку его действия свободны от субъективности, в них проявляется всеобщая истина. Понимая чувства простых людей, он может дать им то, что им нужно. Мы имеем дело с кратким, но точным изложением основ китайского этоса.
Не удивительно, что китайские трактаты о стратегии неизменно включают в себя разделы, посвященные личному совершенствованию. А одна из поздних книг такого рода, «Древний свиток о претворении планов», заканчивается разделом «Отбросить планы». «Великий делатель, – говорится там – хранит Небесный путь и не прибегает к людским ухищрениям, пользуется общей для всех мудростью и отбрасывает изощренные планы». Ибо благородный муж «полагается на общее, а не частное». Он спокоен и расслаблен даже в момент смертельной опасности, ибо способность предвосхищать явления дает ему полную безопасность. А его свобода от самого себя дарит ему чистую радость жизни.
В чем же суть стратегической мудрости для китайцев? Не в чем ином, как в спонтанном следовании динамизму жизни и, следовательно, в способности видеть вещи в разных ракурсах, переворачивать ситуацию, не теряя цельности духа или, еще точнее, «вертеть вещами в вертящемся мире». Как пишет Фэн Мэнлун, «чудесный результат, которого достигает тот, кто вертит вещами, идет от единого сердца». Еще одна поговорка того же рода: «Чудесное действие – в одном повороте». Речь идет о цельности, которая таится между вещами, в разрывах опыта, воплощает не-сходство вещей и потому дается в ироническом модусе. Это цельность перемены, которая ничего не разделяет; превращения как вращения сферы; перемены, свершающейся равно внутри и вовне. Итак: мудрый высвобождает перемены, дает им свершаться в перспективе всеединства и, следовательно, для общей пользы.
Тема «перевертывания ситуации», неожиданно предъявляет новые свидетельства органического единства стратегии, морали и эстетики в китайской традиции. Свобода метаморфоз вещей предполагает мир, развертывающийся под знаком все того же «как будто». В нем одновременно все есть и не есть. В этом мире иллюзорны все формы, все образы времени и пространства. Невежда считает реальными некоторые из них – и оказывается обманутым. Мудрый «бдит само-отсутствие», не делает выбора и поэтому «руководит ситуацией». Для него всякое образ и слово условны. Уже самые ранние свидетельства о восприятии пейзажа в Китае подчеркивают обманчивость всякой перспективы. По преданию, Конфуций, поднявшись на гору, увидел мир «совсем другим». Надо думать, первый мудрец Китая не мог не задуматься о том, какой же из образов мира настоящий? Китайское миропонимание с его прагматизмом ритуала и не дает ответа на этот вопрос. Для китайцев сила воображения, питающая игру, оправдывает сама себя, о чем свидетельствует их любовь к обманным видам в живописи, ландшафтной архитектуре и даже ремесле. Обманный вид – отличный способ обнажить пустотность всех представлений. Профан ослеплен ими. Мудрый ими вертит (юнь) на пользу себе и… всем.
Гении «хитроумия» всегда действуют в одиночку и непредсказуемым образом, ведь они свободны от обстоятельств и даже обязательств. Если мы перенесем внимание на социальный фон их действий, мы увидим много новых персонажей. Наиболее интересны среди них так называемые «странствующие воители» (ю ся, у ся), чье жизненное кредо – «верность долгу», что на практике сводится к защите чести своей семьи, школы и даже всех обиженных. В известном смысле фигура такого поборника справедливости знаменует своеобразную инверсию классических ценностей, благодаря которой тайное становится явным. Эти персонажи строго блюдут святость семьи, школы или даже дружеской ватаги как замкнутой общности и внутреннего пространства совершенствования. Они готовы умереть ради учителя, родственника, порой и любимой женщины. Примечательно, что их кодекс чести запрещает украдкой, «воровски» перенимать боевые приемы чужой школы. «Внутренняя» духовная работа принимает в их среде форму вполне очевидного занятия фехтованием или (позднее) рукопашным боем даже без видимой причины и цели. И сами они отделены от общества почти непреодолимой чертой, ведь они не считаются ни с законами, ни даже с обычаем. Их удел – быть маргиналами и изгоями. Такое выведение внутренней «правды сердца» во внешний мир ставит воителей уже вне классической традиции, делает их образ частью простонародной культуры, ибо в свете традиции степень проявленности соответствует степени помрачения. Впрочем, отмеченная метаморфоза не только не отменяет преклонения перед «тайной мудростью», но, напротив, делает его еще более ревностным и притом публичным. Культ тайны наполняет литературу о «странствующих воителях» романтическими и волшебными мотивами. Пафос этой литературы сродни рыцарским романам Европы или духу бусидо в Японии: это пафос самопожертвования ради идеала. Но как раз по этой причине «странствующие воители» стоят ниже гениев стратегии, ведь они связаны собственными убеждениями и, в сущности, обречены на гибель.