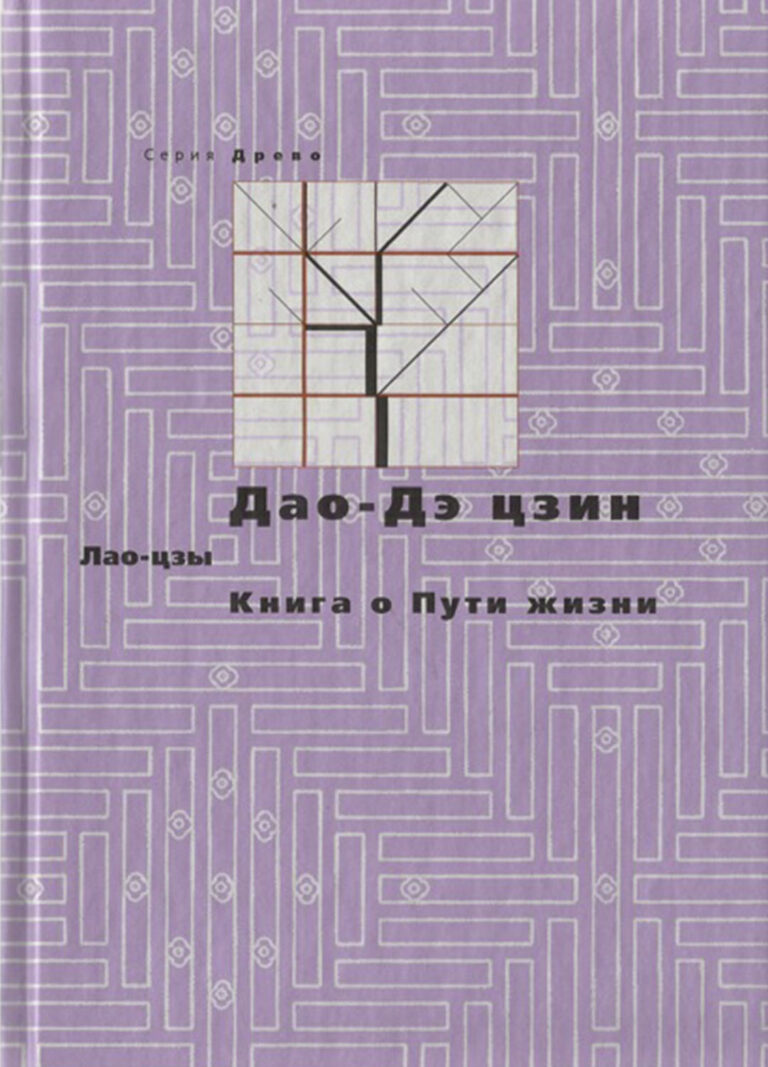Иновидение. Живопись Николая Рериха
Владимир Малявин о евразийском наследии Рериха.
Сознание опережает себя, предвосхищает.
Русские люди поймут, что их задачи не на Западе,
а именно в бескрайних пределах азийских.
Николай Рерих, 1938 г.
Не было и нет на земле художника или мыслителя, который был бы наделен таким острым чувством общих духовных корней человечества, как Николай Рерих. Дар истинно русский. Тем примечательнее, что в жизни и творчестве Рериха он вызревал в рамках именно евразийского мировосприятия. Пора увидеть: наследие Рериха и евразийский мир друг друга дополняют и проясняют. Вне Евразии невозможно понять и принять широту темы Рериха. Наследие Рериха раскрывает самые сокровенные глубины евразийского духа.
Неверно считать евразийский мир алогичной экзотикой и чем-то маргинальным, вторичным по отношению к цитадели мировой цивилизации – Западу. Наоборот: именно Центральная Азия и ее главная транспортная артерия Шелковый Путь еще на рубеже Древности и Средних веков (которые в Азии никак не назовешь «темными») дали образцы убежденного космополитизма, выводившего к прозрению духовного единства человечества. Немыми свидетелями тому служат храмы и руины древних городов, стоявших на Шелковом пути. Литературные свидетельства этому во множестве дают памятники письменности глубинной Азии. Вот один красноречивый пример: древнейший памятник тюркской письменности был записан поверх сборника буддийских песнопений и сохранен в даосском монастыре Дуньхуана – неофициальной столицы Шелкового Пути. Еще пример: в музее города Датун с его грандиозным комплексом пещерных храмов Юньган и прекрасно сохранившимся древним городом, который в 5-6 вв. был столицей кочевническо-земледельческого (характерный для Евразии симбиоз) царства Северное Вэй, представлены рисунки из сравнительно позднего (10 в.) погребения в тех местах. На них изображены легко узнаваемые портреты представителей десятка разных народов. Видно, хозяин могилы и на том свете не хотел расставаться с окружавшей его пестротой лиц и характеров. Воистину, смешение рас, племен, языков, религий – характернейшая черта евразийской истории, учившая узнавать родное даже в чужом и, соответственно, ничего не считать только своим, частным, изолированным.

«Хоровод многоликих народов»: вот первая особенность евразийского мира, которая оказала нигде не акцентируемое художником, но всюду явственно ощущаемое влияние на его творчество. Примечательно, что в плавильном котле Евразии не появилось наций: стихия всечеловеческого смешения оказалась там сильнее желания национальной обособленности. В евразийском мире родовое выше личного, отношения между людьми первичнее и важнее индивидуумов. Недаром в восточных языках само понятие человеческого выражается в словосочетании «между-человеческое». Слово «между» здесь указывает на смычку, тайную связь противоположных, даже несравненных миров, ведь каждый человек – целая вселенная. И если он, как требует Евразия, распахнут мирозданию, все переживаемое им отдается немолчным эхом в бескрайних пространствах, все видимое и известное хранит в себе бездну неисповедимого. На картинах Рериха встают бесконечным потоком «стражи пустыни», «твердыни гор». Зачем охранять пустоту и строить крепости среди прочного камня? Все дело в том, что открываться миру, чувствовать его нас заставляет как раз его неприступность. Мрак ночи заставляет бодрствовать дух.
Подлинное кредо Рериха выражено в однажды брошенном им замечании, что в просторах Азии «быль и тайна неразделимы» Вот почему свидетельствование о евразийском мире есть нескончаемое иносказание: всегда иное сказание и сказание о вечно ином, несказуемом. Свидетельство настолько же искреннее, насколько благопристойное, освященное обрядом, всегда уместное, ибо оно сообщает о жизни родовой-родной, безмолвной встрече сердец, пусть даже вечно разделенных. И как раз поэтому свидетельство ироничное, даже не чуждое стратегически оправдываемой хитрости, ибо оно стирает, устраняет самое себя, не переставая быть. Недаром Феникс стал одним из самых известных символов Востока.
Каким-то образом в евразийском миросознании вся явленное сразу и полностью, без рационально выстроенных переходов обращается в сокровенное, видимое сходится с невидимым, сущее оказывается несущим, всякая вещь выражает себя в другом и противоположном. И сама высшая реальность именуется здесь пустотой, которая, конечно, «не может одолеть тьму вещей» и от мира вещей неотделима. Этот переменчивый, такой ненадежный мир оказывается, как ни странно, самым верным свидетельством «упрямого факта» бытия, вечносущих качеств жизни. Мудрость есть умение пройти, как по лезвию бритвы, между покоем и деятельностью, реальностью и фантастикой и даже открыть одно в другом. Мудрый, говорили китайские даосы, «имеет два применения одному сердцу». Очевидная истина: если хочешь правильно действовать, научись быть в покое; если хочешь хорошо говорить, научись молчать и т.д. Смысл всего наличного как раз в том, чего в нем нет, все данное указывает на исконно за-данное.

Эти основы евразийского миропонимания не вмещаются в рамки отдельных цивилизаций и их исторических судеб. Они принадлежат реальности, если можно так сказать, мета-цивилизационной и подлинно всемирной. Только в этой перспективе можно по-настоящему понять масштаб наследия Рериха и целостность евразийского мира. Бездонной глубиной духовного покоя наполняет она этот кипящий мир.
Отмеченные черты евразийского уклада представлены уже в простейших фактах жизни и географии этого ареала. Житель Евразии есть прежде и превыше всего пустынножитель. Он предстоит суровому безлюдному миру и окружен стражами неизбывной тайны, твердынями святости, знаками вечности. Его жизнь – великое испытание, в котором он, согласно неисповедимому закону жизни духа, черпает столь же великую энергию жизни. Этому Рериха научила Евразия: мотив благотворности испытаний и борьбы, пронизывающий жизненные взгляды художника-подвижника, вырос, несомненно, из опыта его уникальных экспедиций в Центральной Азии и Тибете. Тот же закон Евразии устанавливает внутреннюю связь между бескрайним простором внешнего мира и сокрытостью заповедного места, затерянного острова, горной обители. Во мраке священной пещеры свершается таинство духовного просветления: чем глубже погружаемся мы в пучину внутренней жизни, тем больше открываемся миру, тем крепче и спасительнее наша невидимая связь с человечеством. Здесь внутреннее и внешнее как бы свертываются и даже, можно сказать, ввертываются друг в друга, утверждая себя в своем инобытии.
Можно понять теперь, почему путешествия или, как говорят в Азии, «облачные странствия» стали образом жизни духовных учителей Евразии и почему они оказались таким важным, поистине определяющим обстоятельством в творческом пути Рериха. С первой же его картины «Гонец» героями полотен Рериха стали столь важные для судеб России и всей Евразии люди-странники – воины, торговцы, проповедники: княжеские дружинники, блаженные скитальцы, ушкуйники, ватаги удальцов, казаки в России, «люди рек и озер» в Китае, благочестивые разбойники в степях и пустынях Центральной Азии. Все те, кого Л.Н. Гумилев называл пассионариями. Как раз усилиями этих странствующих, во многих отношениях маргинальных групп был создан сущностно периферийный, но по истокам и устремлениям глобальный евразийский мир.
Тот, кто живет «на пороге как бы двойного бытия», не может не быть странником в этом мире или, как точно определяет русский язык, не может не путешествовать по миру, ведь он всегда пребывает в пределе вещей, в точке их превращения, одновременно конкретного и всеобщего. Его можно было бы назвать мастером путешествия, если учесть, что настоящий мастер любого дела, оставаясь именно практиком, делателем, преодолевает материальные ограничения искусства и собственного «я», достигая в этой свободе необычайной ясности, некой духовной чувствительности сознания. Он восходит от осязаемого ритма деятельности к ее высшему, неформализуемому алгоритму, который в Азии называли «небесным устроением» мира. Мы оказываемся в моменте вечно длящегося превращения, всегда единственного, единичного и потому предстающего неуклонным уклонением, вариациями одной неназванной темы, в равной мере аффектом и эффектом без причины и усилия. Это виртуозное мастерство жизни сродни сверхспособностям, – индийским сидхи, китайскому гунфу и т.п. – что тоже является неотъемлемой частью евразийского уклада, без которой немыслимо грядущее человечество.

Мастер путешествия или, точнее, проживаемой в себе путешественности пребывает не в мире и не над миром, не в себе и не вне себя, а в ускользающем пределе мира и себя. Он следует, если воспользоваться еще одной классической формулой Востока, Срединному пути. Шаг в ту или другую сторону означает падение в гибельную односторонность. Этот Путь есть круговорот земного и небесного, воображаемого и действительного в каждом моменте жизни. В нем сходятся незапамятное прошлое и неисповедимое будущее, Альфа и Омега мироздания. В нем все оставляют, чтобы все осталось, и достигается предельная насыщенность времени в мгновении протекающей вечности. Три задания устанавливает он для мысли: во-первых, оставить все нарочитое, «слишком человеческое», препятствующее вхождению на небо; во-вторых, (на)следовать несотворенной открытости Неба; в-третьих, возвратиться к истоку про-ис-ходящего.
Мир и есть подлинный дом обитателя Евразии, дом странника: выходя из него, в него возвращаются. Чуждая видимых эффектов, но безупречно эффективная работа самовосполнения, восхождения от себя к себе или, точнее, от не-себя к не-Себе.
Рерих учил ценить «историю помимо историков». Он имел в виду фольклор, который заменяет народу письменные хроники. Но в свете сказанного о соприсутствии Альфы и Омеги в человеческой культуре в этой формуле открывается более глубокий смысл. Ибо история идет вперед посредством катастрофических разломов и взрывов сознания, открывающих новые горизонты опыта. Рерих-художник остро чувствовал взрывчатую силу духовного прозрения. Предание и легенды заполняют первозданную – и вечно отсутствующую – пустоту бодрствующего духа, как вода скапливается в воронке, оставшейся после взрыва. Удержание «мельчайшего разрыва» между фольклором и правдой духовного порыва – вот условие «удержания Срединности», задание «стража пустыни» и подлинная миссия мудрого. Идеология, напротив, замазывает этот разрыв. И, наконец, самый глубокий слой культуры: микроскопический, уже недоступный физическому восприятию круговорот реальных и виртуальных измерений опыта – источник мирового движения и подлинный прообраз Великого Пути.
Духовная правда – всеединство всего происходящего вне тождества и различия. В нем, как в мире элементарных частиц, все сущее уравнивается в моменте своего превращения, в нем все есть и не-есть, все «так» и «не так». «Небесный порядок» мироздания не знает противостояния внутреннего и внешнего, сущности и видимости. Он устанавливает столь же сокровенную, сколь и прочную связь между явлениями, внешне очень удаленными друг от друга в пространстве и времени. Эта «вечно вьющаяся нить» (слова даосского патриарха Лао-цзы) угадывается в характерной для евразийского мира слитности древних развалин и природного ландшафта, преемственности первобытных письмен и естественной фактуры камня и кости, соседстве на одном камне изображений, разделенных тысячелетиями, единении людей и животных в «зверином стиле» евразийских культур. Азия живет преемственностью человеческого и небесного в самой жизненности жизни: одно не более чем оборотная сторона другого. В глубине священных озер проступают картины райской жизни, на скалах и камнях открываются лики будд и священные письмена, святость небесной выси наполняет человеческий быт, порождая религиозный уклад, названный русскими евразийцами «бытовым исповедничеством». Но речь не о быте в его исторических формах, а, по сути, о чистой «бытности» существования, которая предваряет и опыт, и знание.
Мы видим параллели «миротворному кругу» (выражение А.Н. Зелинского) евразийского уклада в свойственных картинам Рериха – и, конечно, искусству Азии – все более усиливавшихся со временем декоративных качествах изображения, присутствии эмблем вечности в геометрических, каллиграфически выполненных схемах и орнаментах. Культуры Азии знают различие между внефигуративными «подлинными формами» божеств и их предметными, обычно антропоморфными образами. Тут есть своя иерархия, но она подвижна и в конечном счете преодолима. В высшем просветлении мир предстает таким, каким он видится. Тайна духовного преображения – неразличимость земного и небесного, дление различия, бытийная анафора. Но жестоко ошибается тот, кто думает, что анафорическое видение может быть орудием контроля и манипуляции. Анафора тем и ценна, потому и необходима, что просто «дает быть» миру.
Рерих не раз объявлял самым существенным признаком духовной просветленности способность увидеть далекое близким, своего рода телескопическое видение. Собственно, превращение вещей в постоянстве мирового целого опознается как смена масштаба и ракурса видения. Древние мудрецы Азии говорили о себе, что они воспринимают (хочется сказать, чуют) все происходящее в мире, даже не умея определить, где это случается: за пределами земного мира или прямо под носом. Для них, твердо следующих Срединному Пути, весь мир стал несотворенной раскрытостью бытия, в которой, как в собственном теле или в безмерности горного пейзажа, невозможно определить расстояние между отдельными точками пространства. В этом мире-теле все равно близко нам – и не дается в руки. Так философема Срединного Пути обосновывает заповедь любви к «ближнему».

Все сказанное подводит нас к пониманию сущности живописи Рериха и вместе с тем позволяет видеть трудности этого понимания. Образы в картинах Рериха принадлежат одновременно внешнему и внутреннему миру. Точнее, они рождены преломлением внутреннего опыта вовне и, как внешние предметы, призваны направлять взор зрителя в глубину себя самого. Они подчиняются строгим правилам артикуляции духовного «чутья», но сущностно декоративны и в действительности освобождают чувственное восприятие. Отсюда долгие и бесплодные споры критиков о том, считать ли Рериха «идеалистом» или «реалистом», поклонником вечносущих свойств вещей или пророком эфемерности жизни. Одни отмечают в картинах Рериха рыхлые, расплывчатые очертания природных форм (впору вспомнить слова Ф. Степуна о «мистической аморфности русского пейзажа»), другие подчеркивают каменную твердость его горных пейзажей. И то, и другое, в живописи Рериха, конечно, есть, но только взгляд в евразийской перспективе позволяет уловить закон преемственности столь разных образов мира.
Часто называют Рериха ясновидцем, провидцем. Оценка, конечно, правильная, но не совсем точная, если считать ясновидение способом узрения определенных предметов. На самом деле внутренний взгляд Рериха, как уже говорилось, удерживает в некоем спонтанном единстве или, если угодно, свободной совместности исконную пустотность опыта и многообразие мира. То и другое не может существовать в отдельности, но, подобно отношениям Рериха и Евразии, обретает смысл в их взаимности, проницаемости друг для друга. Скорее, живопись Рериха следует назвать иновидением и притом в двух смыслах: как явление вещей в новом и неожиданном виде как образ реальности недоступной изображению. Ведь в евразийском миросознании в отличие от Запада, утверждающего самотождественность каждой вещи, все существует в своей самоинаковости.
Художественный гений Рериха уловил изначальный импульс живописи Востока: превращение вещей, оно же (воз)обновление бытия в творческом порыве художника предстает актом типизации и стилизации форм. Природа этого акта двойственна: он ставит границу индивидуальному существованию, но высвобождает жизненный динамизм, дарит вещам полноту и целостность «небесного устроения» и так утверждает их вечноживые качества, дает быть вселенскому «телу жизни». Как и положено в азиатских культурах, люди на картинах Рериха лишены психологической индивидуальности. Они – типы, иногда почти карикатурные типажи. Но их образы свидетельствуют о строгой дисциплине духа, усилии восхождения/возвращения к небесным истокам жизни.
Итак, подлинный предмет живописи Рериха – взрывчатая природа просветленного духа, та избыточность бытия, которая увлекает дух к всеединству. Сознание способно опережать, предвосхищать себя и вечно ищет свою ежемгновенно теряемую родину. Оно живет в потоке предвидения/воспоминания и «бдит во мраке». Е.Л. Шифферс называл эту важнейшую для духовного познания способность «забеганием в смерть». Таков подлинный смысл «истории помимо историков», так увлекавшей Рериха. Поистине, человек способен к развитию потому, что несет в себе обетование высшей развитости. Мы достигаем здесь последних пределов иновидения Рериха. На высших ступенях просветления человек способен увидеть себя «в лучах вечности» и опознать свое место в духовной эволюции человечества.
Итак, в евразийской картине мира всякая вещь оправдывается противоположной перспективой видения. Тибетские космографы, рассказывая о своей стране, по принятой в буддизме традиции начинают с описания всего мироздания, постепенно переходя к земному миру, затем к Индии и, наконец, к Тибету, словно приближаясь к нашей планете из космоса. Известно, что политические решения на просторах Евразии принимали на основании гаданий и «небесных видений». Есть предание, что в монастырях того же Восточного Тибета хранятся списки великих подвижников, достигших нирваны или даже только готовящихся войти в нее, и авторы тибетских синодиков указывают, сколько перерождений понадобится этим святым, чтобы претворить себя в покой свободы. Кто смог увидеть их космическую судьбу?

Этот неотмирный взгляд пронизывает все творчество Рериха. Пожалуй, впервые он явственно заявляет о себе в удивительной картине 1918 г. «Властитель ночи, навеянной, возможно, мотивом ночных ритуалов и представляющей взгляд на Землю, так сказать, «с другой стороны». Еще более яркие свидетельства такого радикального иновидения представлены в многочисленных пророческих картинах Рериха, посвященных концу времен.
С непревзойденной решимостью наследие Рериха утверждает высшее задание евразийского человека: превзойти себя и наполнить своим присутствием мир. Его судьба – анафорическая метанойя, сокровенное само-преображение, возвращающее к первозданной жизни, Такая истина не нуждается в доказательствах, но до нее надо дорасти, нужно быть ее достойным. Долгий путь не просто духовного роста, но улучшения и одухотворения всей субстанции жизни – вот задача человечества, поставленная Рерихом.
Евразийский мир в творчестве Рериха принадлежит первичному субстрату жизненного опыта, еще не облеченному в формы доктрин, школ и тем более национальных культур. Здесь – универсальная почва духовных упований человечества. Будды и бодхисатвы, Лао-цзы и Конфуций, Иисус, Магомет и даже Мани, святые разных эпох и народов нашли себе место на картинах этого поистине всемирного художника. Нападки защитников отдельных религий на рериховское наследие – чистое недоразумение. Рерих только указывает на условия существования религии в человеческой истории. Вера и формы религиозной жизни остаются для него делом личного выбора и свободы совести. А ядром социума в евразийском укладе становится школа духовной дисциплины с ее иерархией и деятельным согласием в отношениях учителя и ученика. Представления самих Рерихов об устройстве такой школы – в их терминах «общины» – остаются лишь одним из многих возможных опытов артикуляции духовных основ евразийской мета-цивилизации.
Нельзя не сказать, что с этим взглядом на человеческую социальность согласуются новейшие социологические концепции. Очень похоже на то, что прежняя теория общества, скрепленного отвлеченными идеями и формальными институтами, исчерпала себя. Современный мир живет предчувствием «грядущего», «непостижимого», «непроизводимого» сообщества, основанного на свободной «совместности», взаимном «освобождении» и «пособлении друг другу» (это уже древние даосы писали) людей, живущих в «реальном времени», реальным временем, наполненном вечностью. Людей, живущих настоящим и потому воистину настоящих. Это будет сообщество безымянных мастеров-подвижников, семья одиноких, освобождающих друг друга для чего-то несравненно большего, чем они сами.
Малявин В.В. Февраль 2024