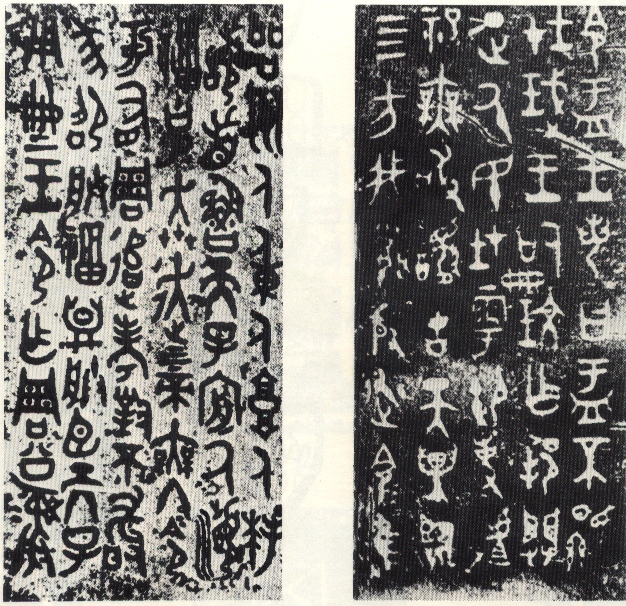Инновации: битва в пути-2
Стратегии модернизации.
Вот: слово вброшено в море жизни, и оно пошло гулять в нем, набираться соков и матереть, чтобы когда-нибудь ослабевшим, окостеневшим, вконец затертым, осесть на мелководье словарей и диссертаций и, в конце концов, уйти в песок забвения.
Это сладкое слово «инновация». Зачем появилось оно в нашем медиа-пруду, заменяющем теперь публичное пространство? Какой от него прок? Предназначено ли ему глотать мелкую терминологическую рыбешку, мутящую воды российской политики? Или ему уготовлено самому стать жертвой зловещего эксперимента невидимых селекционеров? Скоро мы это узнаем. А пока не будем делать вид, что знаем в точности, о чем идет речь. В том-то и дело, что это слово может иметь разные смыслы и служить очень разным интересам. Может быть, тем оно и удобно для всех?
* * *
Начать с того, что инновации — это сама сущность технологического и, шире, цивилизационного развития. Человек вообще есть не что иное, как существо инновационное. Выделять инновацию в особую область человеческой деятельности — признак малодушия и неуверенности в себе. Это значит превращать инновационную деятельность, по саркастическому замечанию С. Фуллера, в «прерогативу лузеров». Оттого же борьба за инновации — самый безопасный политический ход. С таким же успехом можно призывать друг друга быть людьми. Но это означает также, что в широком и одновременно сильном смысле инновацию нужно считать принципом общества, умеющего ценить разнообразие жизни, открытого своей будущности. Разнообразие всегда лучше, ибо в нем больше правды. Тут вся природа «человека созидающего»: неопределенность чистой актуальности практики слитой с неопределенностью будущего, мгновение, зияющее вечностью. Вопрос в том, удовлетворяет ли нынешняя политика этой глубинной потребности человека? Какая политика нужна для этого?
Исторически запрос на непрерывную инновацию — черта постмодерна, который в некоторых отношениях резко противостоит модерну и модернизации. Модерн исповедует самотождественность и бесконечное самовозрастание, его идеал — человекобожие, бесчеловечно-воинствующий гуманизм. Постмодерн ставит во главу угла инобытие и бесконечное саморазличие, открывает постгуманитарное, богочеловеческое начало в вездесущей между-бытности. Вместо модернистского культа количественного роста постмодерн утверждает или, лучше сказать, высвобождает совместность всех форм и качеств жизни.
Судьба демонстративно инновационного авангарда, с потрохами поглощенного рынком, показывает, что инновация стала подлинной душой современной технократической цивилизации. И эта душа — капиталистическая, коль скоро в обществе потребления новизна является самым привлекательным товаром. Владение же инновацией есть ключ к овладению временем капитала как вечнодлящимся мгновением «великого нуля». Притязания нынешней власти на управление инновационной стихией, прежде яростно отвергаемого (вспомнить хотя бы инвективы Адорно против «массовой культуры») — это не пиар-акция, не волюнтаризм, даже не вождистская паранойя , а сама жизненная воля, «основной инстинкт» постиндустриального общества. Вопрос в том, может ли техническая «новинка» стать действительным новшеством, способным удовлетворить жажду потребителя в самоидентификации, опознании своей подлинности (что капитализм всегда обещает, но никогда не исполняет)? Современный капитализм освоил ресурс человеческой проективности путем совмещения эстетической и функциональной ценности вещи в промышленном дизайне, особенно в области информационных технологий. Но промышленное производство и распределение «культценностей» не отменяет способности и потребности человека самостоятельно «промышлять», творчески трудиться. (Английский язык предлагает здесь еще более показательную игру слов: industry — industrious.)
От резкого антагонизма между романтическим идеалом целостной личности и функционализмом рынка мир пришел к мирному, почти растворенному в виртуалистике современного капитализма, но все еще явственно ощущаемому противостоянию труда и потребления. Нынешняя историческая тенденция, кажется, дает возможность окончательно снять этот разрыв в акте творческого само-оставления. В таком случае власть как господство становится анахронизмом. Она может прирасти инновацией, лишь преодолев соблазн диктата. Так что инновация — это не просто новая игрушка, подхлестывающая капиталистическую гонку за (не)счастьем. Она — великое испытание власти, вопрос ее жизни и смерти.
Россия — очень подходящее поле для такого испытания. Она может явить миру инновационный уклад в его самом чистом виде именно потому, что неприятие формальной идентичности составляет, пожалуй, главную характеристику русского мира и суть требований (редко сколько-нибудь ясно формулируемых), предъявляемых им к идеологии. К русскому бытию неприменимы ни идея умозрительного познания и корреляции субъекта и объекта (принцип Запада), ни отождествление сознания с пределом опыта, чеканящее нормы культуры (принцип Востока). Россия предъявляет, скорее, третью, асистемную возможность, в своем роде систематическую: опознание внутренней ограниченности обоих типов познания. Эта возможность обладает огромным разрушительным потенциалом, но она же способна максимально высвободить творческие силы человечества, что и делает ее благоприятной средой для инноваций, каковые есть все-таки, по крылатому слову Шумпетера, «творческое разрушение».
* * *
Изобретательность и склонность русских к новаторству, их интеллектуальная свобода, способность нестандартно и творчески мыслить — хорошо известный и не нуждающийся в доказательствах факт. Если же говорить о национальном русском стиле в инновационной деятельности, то он состоит, пожалуй, в исключительном интересе русских к открытию нового, к технологическому прорыву как таковому и равнодушии к переводу открытия в процесс, постановке инноваций на поток. Сама история России раскрывается как череда инновационных волн, на гребне которых жажда новаторства пропитывала всю общественную атмосферу. Культ проективности в первое постреволюционное десятилетие вписал блестящую страницу в историю не только России, но и мировой цивилизации. А об инновационном буме начала 1960-х годов, когда вся страна жила покорением космоса и расщеплением ядра, а на только что отстроенном Ленинском проспекте открыли магазин «Изотопы», я сам знаю не понаслышке. Успехи техники тогда подогревали ожидание скорого прихода коммунистичекого царства свободы: очень русская вера. То же настроение спорадически прорывалось в годы перестройки, да и сейчас нет недостатка в людях, мечтающих — говорю без иронии — о новых городах с «ризоматической полипространственной организацией», где «интеллигентные пассионарные жители» будут сами управлять своими поселениями, «создавать их притягательный бренд, привлекать соотечественников для интересной перспективной жизни». Этот чисто русский утопизм и есть на самом деле главный общественный ресурс нашего инновационного развития.
Проблема России — отсутствие внутренней цельности в ее укладе, нестыковка ее бытия и самообраза, выписанного по прописям заемных доктрин. Результатом внутренней разорванности русского социума стали общеизвестные катаклизмы русской истории, Специалисты разного профиля сходятся во мнении, что современной России свойственны аморфность и пассивность общества, нигилистическое отношение к ценностям и праву. Нравится это энтузиастам инноваций или нет, но работать им придется именно с таким социальным материалом, имеющим к тому же глубокие корни в русской истории. Но можно надеяться, что эти пороки России не лишены своих достоинств именно в перспективе инновационной политики.
Значит ли это, что нужно взять и «распустить» Россию? Ни в коем случае. Да, нужно превозмочь авторитарные привычки, разжать корпоративные и бюрократические зажимы. Русское государство должно, наконец, срастись, сродниться с многообразием русской земли. Но прежде чем дать свободу обществу или, лучше сказать, предоставить общество его свободе, нужно осознать природу новой социальности (назовем ее условно инновационной), которая выявляется по ту сторону всех фетишей трансцендентной общественности: государства, нации, религии, капитала, либерализма, социализма. Нужно понять, что преодоление этих формальных критериев социальности не только не убивает человеческое общежитие (оно, впрочем, уже почти убито этими самыми идеями) а, напротив, обнажает самую реальную и действенную основу единения людей: жизненное со-творчество.
Новая социальность требует совершенно нового образования, которое будет иметь целью не усвоение социальных ролей (традиционное общество) и не воспитание автономной личности (общество модерна), тем более не натаскивание на изобретательство, а высвобождение жизненного потенциала во всей его эмоциональной, интеллектуальной и духовной полноте. Эта цель достигается средствами духовного в?дения и деликатного вед?ния и состоит, собственно, в воспитании одухотворенной чувствительности, обостренного сознания мирочеловеческого единства. Это будет образование, примиряющее язык с безмолвием «истины сердца».
Пока еще плохо осмысленное, но важное обстоятельство заключается в том, что творческое начало в человеке уходит корнями в самые глубокие слои сознания и душевной жизни — те глубины опыта, которые предшествуют и одновременно наследуют индивидуальному сознанию и рефлексии. Область творчества — это трещина между-бытности в самом истоке существования, рассеянное, текучее пространство постгуманитарного социума. Вот почему подлинная инновация, открывая глубину человечности по ту сторону индивидуальной памяти и воображения, способна поддерживать преемственность народного самосознания, понимаемого не в смысле чахлой «национальной идеи», но как полнота народной памяти и вырастающая из нее вариативность будущего. Соответствие бессознательным ожиданиям общества — не последний фактор успеха конкретных социальных инноваций. Тем самым инновация выполняет важную психотерапевтическую роль: она утверждает попятное, возвратное движение сознания к его внутреннему истоку, освобождая индивидов и общество от бремени актуальной истории, открывая простор для проектной деятельности. С этой точки зрения инновация есть подлинное средоточие народной жизни. А политика, обслуживающая эту функцию — без преувеличения, важнейшую — общества будет подлинно демократической без популистской пошлости.
* * *
Идея инновационной социальности снимает очень болезненный в современной социологии вопрос о субъекте инновационных процессов. Последние становятся именно общим делом, но, конечно, не в смысле мобилизационного коллективизма, подчиненного некой субъектной воле. Речь идет о спонтанной сообщительности, которая предваряет все сообщения и самое общение. Можно только позволить ей быть в акте смирения как жизни в мире с миром. Мир жив, мир держится жертвенной щедростью того, кто способен оставить себя — и оставить каждому свое. Инновационная социальность — великая моральная сила.
Инновации — поле битвы, в которой победа добывается без боя. Но большим усилием. Над собой.
05.07.10 11:27