Японские путешественники в Китае
Владимир Малявин

Отдельную категорию иностранных путешественников в Китае составляли гости из Японии. Если говорить о людях образованных, то долгое время, целую тысячу лет, то были почти исключительно буддийские паломники, которые приезжали в Срединное царство поклониться святыням своей религии. Прочим ученым японцам Китай был любопытен как источник всяческой мудрости и искусств. Вот показательный факт: в начале 18 в. в единственном тогда открытом порту Нагасаки японские власти на основании рассказов китайских купцов составили обширное собрание зарисовок предметов китайского быта, постаравшись не упустить ни одной мелочи. Спустя столетие дотошность японского любопытства испытал на себе русский морской офицер Василий Головнин, проведший два года в японском плену. Чуть ли не каждый день Головнину приходилось делать рисунки всех русских вещей, о которых японцам доводилось услышать. То было, конечно, не просто любопытство, но уже и привычка, ставшая второй натурой, и даже целая жизненная философия. Пожалуй, лучше всего об этой черте японского характера сказал в 1913 г. Герман Кайзерлинг: «Типичный японец не творец, но и не подражатель. По своему существу он ловкач, умеющий извлечь выгоду; это умение, присущее борцам джиу-джитсу. Что нужно, чтобы стать мастером этого искусства? Не творческая инициатива, но незаурядная наблюдательность, умение мгновенно оценить эмпирическое значение каждого впечатления и способность тотчас извлечь отсюда максимум практической выгоды для себя… Японцы, как никакой другой народ на земле, могут усваивать чужое, не опасаясь, что им это повредит, потому что в глубочайшей основе японцы не поддаются никаким влияниям…»
И как не заметить, что уже в наше время Япония с легкостью перенимает американские изобретения и ретранслирует их, чаще всего, конечно, в специфической японской оболочке, на сопредельные страны. Дело для японцев привычное. Точно так же они поступали с заимствованиями из Китая: придавали им японский вид и делали своим.
Но вернемся во вторую половину 19 в., когда среди жителей страны Восходящего солнца появились путешественники в собственном смысле слова – те, кто приехали в Китай для того, чтобы составить собственное представление об этой стране и ее народе. Нередко они писали и издавали подробные путевые записи и дневники. Эти визитеры разительно отличались от европейцев тем, что хорошо знали и китайскую книжную науку, и китайскую историю. Для них Китай, как Европа для образованных русских, пусть даже и славянофилов, был поистине «страной святых чудес». А их знания о Китае придавали их запискам особенную глубину и драматизм, ибо они невольно сравнивали сложившийся в них за годы учения идеальный образ Срединной империи с тем, что видели вокруг себя. И, конечно, сравнение мечты с реальностью было не в пользу последней.
Восприятию японцами Китая был свойствен, таким образом, острый внутренний конфликт, с которым авторам путевых записок надо было как-то разбираться. Самый простой выход заключался в том, чтобы отмежеваться от действительности, но сохранить в себе сознание своей причастности к великим идеалам Срединного государства. Этот ход мысли и поныне преобладает среди жителей Японских островов, даже если по соображениям политкорректности они не слишком его педалируют. Он отразился, к примеру, в распространенной среди японцев поговорке о жителях их бывшей колонии Тайваня, которая гласит: «У тайваньцев есть тело, у японцев есть ритуал». В душе японцы до сих пор считают себя подлинными преемниками духовных заветов церемонного обхождения, которое на Востоке и делает человека человеком. Непоколебимая уверенность японцев в правоте этой веры даже делала необязательным изучение современного китайского языка. До последнего времени японские специалисты по «китайской науке» не умели – точнее, не хотели – говорить по-китайски. Зачем изучать вульгарные и к тому же такие разные наречия современных простаков, когда все достойное познания давно отлито в стройные формулировки древних книг – этой латыни Дальнего Востока! Правда, одно дело знать ритуал, а другое – претворять его в жизни, и надо еще посмотреть, насколько японцам удалось быть верными глубинной сути китайской церемонности. Но это – отдельная тема.
Конечно, японцы пришли к столь лестному для них выводу не сразу и не без внутренней борьбы. В конце концов, не всегда легко определить, где кончается величественная древность и начинается ничтожная современность. Пожалуй, поворотным пунктом здесь стал клич «прочь от Азии!», выдвинутый в середине 80-х годов 19 века влиятельным публицистом Фукудзавой Юити. Смысл этого лозунга был таков: Япония должна оевропеиться и стать наряду с европейскими странами колониальной державой в Китае. Кстати, это умонастроение господствовало в Японии до 30-х годов 20 в., когда его сменило убеждение в необходимости преодолеть и европейскую современность (или, как сейчас говорят, Модерн) с тем, чтобы Япония стала центром мировой цивилизации.
В 1884 г., за год до того как Фукудзава Юити призвал соотечественников встать вровень с Европой, японский путешественник в Китае Ока Сендзин (1832-1913), большой знаток «китайской науки», все еще с недоумением всматривается в китайский быт, находя в нем множество неприятных черт. Он удивляется тому, что даже многие высокопоставленные чиновники и ученые Китая пристрастились к опиуму и не стесняются жить в запредельной роскоши среди беспросветной нищеты народа. Он спрашивает своего высокоученого китайского приятеля, почему Китай не хочет всерьез учиться у европейцев и в ответ слышит безапелляционный вердикт: «Европейцы – сущие шакалы и волки, у них по части человеческих отношений учиться нечему». В городе Шаосин на юге Ока встречает трех учащихся конфуцианской школы, которые со всей серьезностью объясняют ему, что солнечные затмения случаются от того, что солнце проглатывает большая жаба, как о том учат древние китайские книги. Без всякой мысли о Фукудзаве Ока приходит к выводу, что японцам следует «отделиться» от китайского мира.
Некоторые знатоки «китайской науки» отнеслись к Китаю благосклоннее. К их числу принадлежал, например, Окакура Тенсин (1862-1913), приобретший известность своей изданной позднее «Книгой чая». Окакура посетил Китай в 1893 г., еще до японо-китайской войны, окончательно разрушившей все иллюзии относительно величия Китая. Он приехал изучать китайское искусство по заданию императорского двора, с удовольствием скупал китайский антиквариат и носил косу, как китаец. Окакура полагал, что Азия одна на всех, а вот Китаев два: один на севере, другой – на юге.
Но вот свидетельства Токотоми Сохо (1863-1957), попавшего в Китай в разгар боксерского восстания. Этот путешественник выделяет прежде всего ненависть китайцев к иностранцам, но не находит в Китае чего-либо похожего на нацию. Китайцы, говорит он, живут бедно и грязно, в них нет силы духа и веры в будущее. Хотя они умеют отстаивать свои корыстные интересы и использовать любой шанс, который им предоставляет судьба, они – прожженные лгуны и обманщики (в этом Токотоми сходился со многими европейскими «знатоками» Китая того времени). «Сможет ли Китай когда-нибудь присоединиться к жизни и идеалам цивилизованных наций и стать великим и могущественным государством?» – спрашивает Токотоми. И отвечает: «Вот самое большое из всех обуревающих меня сомнений».
Может быть, самым характерным документом эпохи в этом жанре являются путевые записки Уно Тэцудо (1875-1974), побывавшего в Китае в 1906-1907 годах. Уно, конечно, тоже много лет изучал «китайскую науку» и ехал в Китай как в страну волшебных грез, где каждый камень напоминает о великой мудрости древней страны. Увы, действительность мгновенно разрушила эти мечты: на берегу, куда пристал его корабль, взору Уно открылись грязные лачуги «похожие на свинарники». Его уныние прервало лишь явление японского флага на проходившем мимо судне. Тут Уно почувствовал, что и в Китае цивилизованная жизнь не оставит его. Он оседает в Пекине и оттуда совершает несколько путешествий, не забывая наносить визиты вежливости всем местным начальникам. Новый прилив чувств он испытал, когда приехал в родной город Конфуция Цюйфу и увидел места, связанные с жизнью величайшего мудреца Китая. С пафосом, но на самом деле без претенциозности он записывает в своем дневнике: «Мы были подобны отряду Крестоносцев, наконец-то увидевших перед собой Иерусалим». Посещение храма и могилы Конфуция так растрогало его, что он заговорил исключительно о духовных материях: «Я невольно склонил голову, как будто приближался к духу Мудреца. Я чувствовал его дух, даже не глядя перед собой, я как будто слышал его голос. И я, ничтожный, словно погрузился в непостижимые пучины духа мудреца…». Вернувшись в город, Уно узнал, что его переживания в столь возвышенном месте созвучны мнению правителя уезда. «Наше Цюйфу, – сказал этот чиновник, – можно сравнить с Иерусалимом, хотя учение Конфуция и христианство – вещи разные… В Библии сказано, что всемогущий бог создал небо, землю и все существа, а на седьмой день предался отдыху. Это самое неразумное, смехотворное сказание. В Цюйфу еще надо поискать христиан».
— А учения Конфуция и Мэн-цзы еще живы в этих краях? – спросил Уно правителя уезда.
— Нет – ответил тот. Наши ученые люди еще рассуждают о Конфуции и Мэн-цзы, но это только сотрясание воздуха.
«Я ожидал увидеть на родине Конфуция его наследие в чистом и безыскусном виде, как было в древности. Но меня постигло большое разочарование», – заключает Уно.
Страницы путевых дневников Уно заполнены тщательными описаниями увиденных им достопримечательностей. Описания дополняются всевозможными историческими и литературными экскурсами – типичный трэвелог выученика «китайской науки». Главное настроение этих записок – бренность всего земного, которой противопоставляется неувядаемая свежесть самого чувства встречи с «древними мудрецами». Перед нами как будто восточная версия латинской истины: «жизнь коротка, искусство вечно».
Под конец Уно с педантичностью антиквара выделяет десяток «характерных черт» китайских нравов – почти все малопривлекательные. Вот эти черты в том порядке, в каком они перечисляются в записках Уно. На первом месте, как ни странно, стоит «демократичность», под которой понимается поглощенность китайцев повседневной жизнью и их полное равнодушие к государю. Вину за этот разгул демократии Уно возлагает на эпигонов Конфуция во главе с Мэн-цзы. Далее Уно называет приверженность китайцев к семье, что опять-таки препятствует появлению в Китае сильного государства. Третья национальная черта китайцев – «эгоизм», одержимость личной выгодой. На четвертом месте стоит приверженность суевериям, на пятом – качество, деликатно названное «склонностью к преувеличениям», на шестом – «слепое подражательство». Уно также называет китайцев «чрезмерно общительными», а причину этого видит в китайском языке, который богат гласными. Такой язык, фантазирует Уно, свойствен мирным народам, тогда как языки с обилием согласных (на ум приходят польский, немецкий, да и русский недалеко от них ушел) развивает агрессивность. Впрочем, продолжает Уно, китайцы в жизни пассивны и приучены покорно принимать свой удел. Наконец, последнее качество китайцев, выделяемое Уно, – их любовь к «праздности»: китайцы производят впечатление людей всегда расслабленных и спокойных. По сравнению с японцами – вне всякого сомнения. Хотя, по правде сказать, жители Юго-Восточной Азии выглядят еще более расслабленными. Не зря жители «цивилизованных» стран вроде Японии или той же Европы так любят ездить туда отдыхать.
Но где корень бед Китая? Отвечая на этот вопрос, Уно (как и все его соотечественники в те времена) указывает на частую смену династий в Китае, что воспитывает в китайцах равнодушие к своему государству и не позволяет им стать нацией. То ли дело Япония, где династия никогда не прерывалась и император (по крайней мере, до конца последней мировой войны) имел статус прямого потомка богов, сотворивших мир. Что и говорить, редкая честь в современном мире.




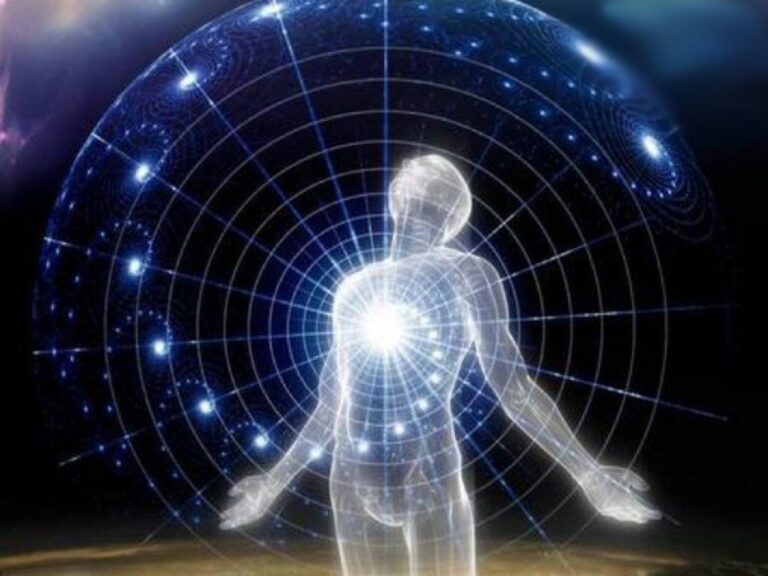


Не удивительно, что жители японских островов не нашли в Китае то, что ожидали там найти. Ведь рациональное рефлексирующее сознание всегда обманывает свои ожидания, примеряя идеальную картину языка на мир. И всегда ошибается, потому что сосредоточенность на риторике и логическом осмыслении ведет к забвению сути, которая дана в неуловимо тонких деталях, ускользающих от занятого в данный момент <дурной работой> ума. Говоря словами В.М ожидая увидеть внутреннее — находишь внешнее. Занят вещами и не замечаешь того, что предшествует им. Хорошее русское слово: «предвещать» что значит: предшествовать вещам или: находится там, где вещи еще не появились. Можно сказать, что японский подход к миру — это копание в вещах. Но нужно заметить — усердное. Возможно такой японец не был бы удовлетворен словами того человека из Чжуан-цзи :
«Чему же я мог научится у великого мастера? Я про стоял с метлой у его ворот, и всего »
— и либо действительно простоит всю жизнь с метлой у ворот — либо вынесет из басни практическое суждение о том, как эта деятельность взятая сама по себе позитивно и мощьно влияет на развитие внутренних качеств.
Не удивительно, что жители японских островов не нашли в Китае то, что ожидали там найти. Ведь рациональное рефлексирующее сознание всегда обманывает свои ожидания, примеряя идеальную картину языка на мир. И всегда ошибается, потому что сосредоточенность на риторике и логическом осмыслении ведет к забвению сути, которая дана в неуловимо тонких деталях, ускользающих от занятого в данный момент <дурной работой> ума. Говоря словами В.М ожидая увидеть внутреннее — находишь внешнее. Занят вещами и не замечаешь того, что предшествует им. Хорошее русское слово: «предвещать» что значит: предшествовать вещам или: находится там, где вещи еще не появились. Можно сказать, что японский подход к миру — это копание в вещах. Но нужно заметить — усердное. Возможно такой японец не был бы удовлетворен словами того человека из Чжуан-цзи :
«Чему же я мог научится у великого мастера? Я про стоял с метлой у его ворот, и всего »
— и либо действительно простоит всю жизнь с метлой у ворот — либо вынесет из басни практическое суждение о том, как эта деятельность взятая сама по себе позитивно и мощьно влияет на развитие внутренних качеств.
Не удивительно, что жители японских островов не нашли в Китае то, что ожидали там найти. Ведь рациональное рефлексирующее сознание всегда обманывает свои ожидания, примеряя идеальную картину языка на мир. И всегда ошибается, потому что сосредоточенность на риторике и логическом осмыслении ведет к забвению сути, которая дана в неуловимо тонких деталях, ускользающих от занятого в данный момент <дурной работой> ума. Говоря словами В.М ожидая увидеть внутреннее — находишь внешнее. Занят вещами и не замечаешь того, что предшествует им. Хорошее русское слово: «предвещать» что значит: предшествовать вещам или: находится там, где вещи еще не появились. Можно сказать, что японский подход к миру — это копание в вещах. Но нужно заметить — усердное. Возможно такой японец не был бы удовлетворен словами того человека из Чжуан-цзи :
«Чему же я мог научится у великого мастера? Я про стоял с метлой у его ворот, и всего »
— и либо действительно простоит всю жизнь с метлой у ворот — либо вынесет из басни практическое суждение о том, как эта деятельность взятая сама по себе позитивно и мощьно влияет на развитие внутренних качеств.