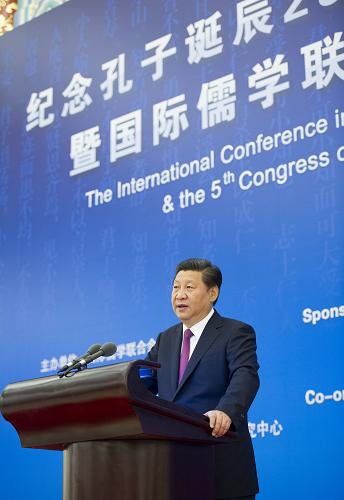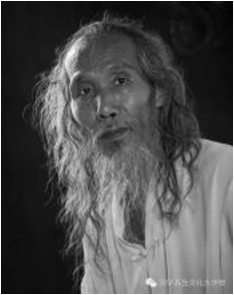Россия в евразийском пространстве
Владимир Малявин
В новой книге «Русская идентичность». Москва: Интелрос, 2012
Россия в евразийском пространстве
Статья представляет собой новую попытку понять Россию в евразийской перспективе. Пространство России дискретно, складчато, интравертно. Это пространство драпировки и вечного драпа, само-избегания и, следовательно, психосоциального кризиса. Географически оно есть «пустое место», духовно – «пустынь», исторически – «пустырь». Автор предлагает новую типологию цивилизаций, где России отводится роль посредника между Западом и Востоком. Указаны перспективные и притом взаимодополнительные формы русской и китайской глобальности: «скифство» и «чайна-таун». Евразийское содружество, полагает автор, может быть создано на основе присущей Азии глубинной социальности «чистой сообщительности» вне общественных институтов и публичности. Оно может стать именно евразийским, поскольку имеет параллели в «постполитической» или «постосновательной» идеологии современной Европы
Топология России
Давно известно, что у России «особенная стать». Но в чем заключается эта уникальность России? Каков тот главный, ключевой факт или фактор ее уклада, который позволяет увидеть внутреннюю связь и устойчивую целостность всех явлений, всех сторон русской жизни? Не слишком ли дерзкий вопрос? Наверное, найдется немало очень образованных людей, которые употребят всю свою эрудицию и свое красноречие для того, чтобы его затушевать, объявить несущественным, растворить в частностях или политической риторике. Ведь этот факт и в самом деле не дан в каком-то чистом, совершенно наглядном виде, но рассеян во всей совокупности событий русской истории и даже в стихии русского быта. Целостность народного духа и подлинное течение истории – это реальность несводимая к какой-то частной перспективе, пронизывающая всю толщу народной жизни и потому остающаяся сокрытой именно в своей полной явленности. Здесь, как нигде, требуется и критическая дистанция, и способность к отвлеченному мышлению. Здесь как раз тот самый случай, когда быть и знать нераздельны.
Вот один пример из истории Востока. Если китайские художники заявляли, что сущность живописи есть «одна черта» — что является, кстати сказать, очевидным эмпирическим фактом – то это не значит, как полагали их японские ученики, что картины в самом деле нужно писать одной линией. Фокус живописной композиции невидим; он (ра)скрывается в рассеянии и превращении форм.
Лучший способ искать истину и лучшее противоядие от софистики и эмпиризма трусливой мысли – принять действительность как она есть. Что значит: взглянуть прямо на самые очевидные, самые фундаментальные факты, с одной стороны, объективного положения страны, с другой – ее самообраза, запечатленного прежде всего в историческом предании. Связь того и другого и должна стать отправной точкой для познания России. А если у России действительно «особенная стать», то нельзя не заметить в качестве предварительного условия нашего познания, что особенность не может не быть особенной по отношению к самой себе, нести в себе нечто еще более «особенное», соскальзывать в тонкий, почти незаметный нюанс. Особенность никогда не тождественна себе и предполагает бесконечное разнообразие мира. В этом смысле она составляет неотъемлимое свойство человека, самое человечное качество жизни. А жители «самой особенной» страны мира не могут не считать свою родину неизбывной тайной и даже спрашивать, где она начинается и кончается и существует ли вообще.
А теперь попробуем «увидеть очевидное»: определить простейшие, и самые важные, факты о России.
Первая истина о России состоит в том, что Россия – страна больших пространств. Из этого тривиальнейшего факта следует, что русское пространство в отличие, скажем, от пространства европейского, не имеет формальной целостности; оно неоднородно и, можно сказать, безразмерно. Индивиды и всякая «общественность» попросту несоразмерны ему. На подсознательном уровне, как заметил Розанов и многие другие, русские переживают ужас самопотери, собственной небытийности. Уступить, устраниться, пожертвовать собой – фундаментальный русский жест, зафиксированный в историческом предании как… исходная точка русской государственности.
Дискретность, прерывность – главное свойство русского пространства. Даже в административном отношении в России всегда сосуществовало множество непроницаемых друг для друга территорий от лагерных и ссыльнопоселенческих зон до закрытых городов и усадеб элиты. Еще важнее то, что бескрайний простор в пределе оборачивается собственной противоположностью и предстает замкнутым пространством внутри ограды, островом, глухим углом: «Русь, опоясана реками И дебрями окружена…»; «Затерялась Русь в Мордве и Чуди…». Такая метаморфоза происходит не в силу какого-то диалектического закона, а просто потому, что не может не произойти, и оба полюса России, как напоминают приведенные поэтические свидетельства, относятся к области мифопоэзиса, инобытийности утопии. Видеть в них «объективную действительность» и тем более научный факт – опасная ошибка.
Что делает возможной трансформацию континента в остров? Ускользающая, но всеобъятная грань всех перспектив, «мир миров» (Россия по Гефтеру). Россия движется в этом непредставимом пределе, не сходя с места.
Итак, тайна России кроется в средостенье большого, распахнутого в бесконечную даль пространства и потаенного острова, заповедного места, скита, заимки, дачи и проч., взаимной обратимости предельно великого и исчезающе малого, вселенского и частного, последней внутренней глубины и чистой явленности. Вот почему Россия вечно бежит от себя, не узнает себя в услуждиво подсовываемой ей разными людьми «объективной данности».
Изначально, по своему географическому положению, Россия выглядит «пустым пространством между Европой и Азией» (Даниил Андреев), по символам и упованиям ее культуры – «милой пустынью» русского фольклора. Безмерность пространства – главный фактор русской географии и вместе с тем русской ментальности. Но русская пустота, как внезапно открывшийся просвет в облаках или в лесной чаще, – не безжизненная пустыня, а обещание изобилия жизни, условие обживания мира. Чтобы обрести или, если угодно, освободить русское начало в себе, нужно выйти из общества, примкнуть к ватаге ушуйников, казаков, офеней и просто странников, стать, наконец, пустынником, ощутить себя принадлежащим неведомой будущности своей земли, строителем еще невидимого Нового Иерусалима. Впрочем, Россия не столько строится ,– архитектура русская лишена монументальности – сколько выносится вовне ее самой. Русское зодчество – подвиг смирения. Жить по-русски – значит хранить в своем сердце глубину несвершения.
Необозримый простор не позволяет видеть, но заставляет смотреть, а главное, изменяться самому; он будит духовную интуицию, ибо восстанавливает цельность запредельного видения. Русскому, конечно же, надо превзойти себя. Русский пейзаж примечателен «мистической аморфностью» (Ф.Степун), чарующей и томящей. В России родная сторона зовет и манит на сторону, в ней жизнь есть странничество без установленной точки наблюдения. Образ жизни первого (по-видимому, нерусского) юродивого на Руси, св. Прокопия Устюжского, о котором в его житии сказано, что он бродил без устали «по непроходимым лесам и болотам в поисках неведомого отечества», обнажает исток мифа Святорусской земли, вышедшего, несомненно, из стихии народной духовности. Блуждание в лесной чаще, этом предельно насыщенном не-пространстве, сродни погружению в священную пещеру: в обоих случаях физическое зрение оказывается бесполезным, и приходится развивать в себе зрение внутреннее, духовное.
Преизобильная пустота «лесной пустыни» переживается как разрыв в субъективной преемственности сознания, как вездесущая «инаковость» опыта, но на самом деле она есть отсутствующая вечнопреемственность: другая и подлинная жизнь, текущая всегда рядом с нами, даже «под рукой». В русском языке слово «иное» с особенной очевидностью означает и единое, и другое. Только в русской традиции иночество служит основанием и оправданием культуры. Только русский национальный гений Пушкин – сам похожий на инородца – искал «иные права», которые, несомненно, родственны, если не прямо тождественны, сокровенной «правде» русской жизни.
Известна и цена, уплаченная русскими за широту и размах своих притязаний: Россия пребывала в постоянно углублявшейся раздвоенности, внутреннем разладе, по-разному выразившихся в спорах о нестяжательстве, Опричнине и Смутном времени, церковном расколе, противостоянии России дворянской и мужицкой, в революции и последовавшей за ней многолетней гражданской войне (в основном согласно традиционному водоразделу между Царством и Землей). Нет в мире нации, более склонной к самоотрицанию, взаимному соперничеству и усобицам, непрестанному исканию какой-то вечно другой родины.
Мало сказать, что Россия со всеми крутыми поворотами ее истории пребывала или пребывает в кризисе и неустройстве. Кризис – сама суть русского жизнеустройства, неспособного обосновать и оправдать собственные устои или, вернее, ложно оправдывающего их. А разрыв между властью и обществом, официозом Третьего Рима или Третьего Интернационала и народным мифом Сяторусской земли, града Китежа, Беловодья и т.п. настолько свойствен русской традиции, что парадоксальным образом определяет единство и цельность русской цивилизации. Этот разрыв лишь изредка затушевывался особенно свирепыми формами авторитарного контроля. Собственно, потребность в постоянном укреплении «вертикали власти» и параллельно с этим всякого рода чрезвычайщине, «спецрежиме» и сопутствующем им «избыточном насилии» вплоть до необходимости употреблять ненормативную лексику, чтобы добиться исполнения приказа, есть лучшее подтверждение наличия указанного разрыва между властью и жизнью. Никакая рациональность, никакой культурный стиль в России не держатся, не держат себя, и наибольшим вкладом России в мировое искусство стал авангард, т.е. систематическое бесстилье.
Народная стихия при таком положении дел, конечно, предоставлена самой себе и «безмолвствует», но ее «безмолвие» не равнозначно ни равнодушию, ни пассивности. Народ а России знает себе цену и, более того, — уверен в себе, ведь он наделен вечноживым, хотя и вечноотсутствующим, телом. Он имеет хоть и неписаные, даже негласные, но твердые критерии и принципы, по которым оценивает своих правителей. Эти оценки – непонятные иностранцам и даже незамечаемые ими – обусловлены тем, насколько хозяева России сознают и умеют применить в политике внутреннюю прерывность русского мира. Вот почему народ особенно ценит в своих властителях самый грубый юмор, а оппозиция в России подвергается почти ритуальному по своей природе осмеянию.
Цивилизация кризиса и чрезвычайщины не признает формалистики права. Ее регулятивное начало укоренено непосредственно в спонтанности жизни и выступает как предел всех вещей и, шире, предельность, заданная существованию, в конечном счете – творческий хаос, бесконечно сложный ритм жизни. Хаотичность, отсутствие ясных дефиниций и двусмысленность суждений, схождение крайностей агрессии и кротости в психологии, тирании и вольницы в политике, прозы и поэзии в языке, и, как следствие, чрезвычайная усложненность душевного склада, государственного строя, грамматических конструкций, – самые характерные черты русской цивилизации, которая по той же причине есть цивилизация праздника, праздничной свободы и праздничных излишеств.
Неопределенность, пусть и праздничная, порождает тревогу и стремление изменить существующее положение. В России мало устойчивости и много нервозности. Но в ней также много культуры в той мере, в какой именно культура предъявляет различие между возвышенным и низменным, вертикальную ось опыта, делающую возможной интенсификацию жизни. В «невзрачном» русском пейзаже, по словам Степуна, главный элемент – линия горизонта, отмечающая предел воспринимаемого мира и зовущая к его преодолению. В «лесной пустыни», как в пещере, линия горизонта стоит прямо перед странником, и преодолевать ее нужно духовным подвигом, внутренней трансценденцией души. Русский человек живет почти вслепую, наощупь: не в законах и договорах, а во «внутренней клети сердца» ищет он сообщительность с другими.
Молчание русской земли – знак восхищенности, безусловной открытости миру, первое условие созревания души и культурного творчества. Это молчание – почти невыносимый вызов власти, которая, по слову В.В.Бибихина, испокон веку пытается его оговорить и заговорить. Именно оно воспитало в русских этос личного, но публично и эстетически переживаемого смирения (именно: жизни-с-миром) и жертвенности. Кульминационная точка такого отношения к миру – внутреннее преображение как собирание человеческого и божественного измерений мира в том качестве духовного видения, взаимопроникновения горнего и дольнего, которое называют «мистическим реализмом» (В.В.Зеньковский) или «духовным реализмом».
«Осеняющее» присутствие мистической реальности остается, как истинно декоративное начало, неуловимым для предметности сознания и практики: оно довлеет себе, обладает качеством «косности». Эта интуиция тщеты человеческого делания издавна питала русскую тоску и русский «нигилизм». То и другое выпестовано леденящей душу догадкой о неспособности человека ответить на зов высших сил и свести идеал к радикальной конечности мира. Здесь требуется совместить быт и дух, повседневность и подвижничество в нормативности культуры – цель, очевидно, недостижимая средствами абстрактной рациональности. Неспособность же выполнить эту задачу заставляет прибегнуть к насилию.
На поверхности русской жизни мы имеем дело с чередой масок, проекциями внутренней реальности, миром-пустыней, оставленным сознательной волей и пред-оставленным самому себе. Русское бытие или, лучше сказать, бытность России – это всегда драп, драпировка, служащая почти инстинктивному желанию укрыть, скрыть себя. И чем экзотичнее драпировка, тем она удобнее и привлекательнее: насобачиться в Париже по-французски лучше французов, превзойти индусов в преданности тамошнему гуру – национальный спорт русских. Эта драпировка есть, конечно, способ «драпать», бежать, уклоняться от своей то ли недостижимой, то ли невыносимой идентичности. И даже, если впомнить о французской этимологии этого слова, способ обеспечить свою скрытность а порой бравировать им, как знаменем.
Речь ни в коем случае не идет о стыдливо замалчиваемом качестве русской души. Легенда о призвании варягов, празднование собственного поражения (чему наиболее известными примерами служит праздник Покрова Богородицы или нынешний День Победы – «праздник со слезами на глазах»), а равным образом как-будто непроизвольные, но с фатальной неизбежностью случающиеся поражения и отступления на начальном этапе войны с иноземными врагами – тоже фундаментальный факт русской истории. Совершенно необязательно и даже явно ошибочно считать это национальным позором. Ошибочно уже потому, что мы имеем дело с важнейшим принципом восточной стратегии. Перед нами приметы чуждого и малопонятного Европе мировоззрения. Но о нем удобнее сказать ниже.
Признаем, что русское прячется в чужом и нерусском, и это стремление как можно полнее и плотнее задрапироваться есть, поистине, главная черта русского миросознания. Оно распространяется и на немецко-греческо-татарскую империю, и на псевдоморфозы русской интеллигенции, с легкостью переходящей от ультрареволюционности к крайнему охранительству и обратно, минуя разумные компромиссы и положительные программы. Оно свойственно и народному идеалу: русский любит блажить, и его герой – непонятный всем блаженный. А в блаженной стране Беловодье, согласно народным представлениям, собственно русские составляли только четверть жителей, писали там на «сирском языке», а служили епископы антиохийского поставления. И сегодня стремление «не высовываться», забиться в щель и пересидеть преобладает в общественном умонастроении, причем в равной мере как молчаливого большинства, равнодушно мимикрирующего под текущую политическую моду, так и оппозиции, которая не просто маргинализирована, но и хочет быть маргинальной.
Мы находим довольно точный аналог этим чертам русской жизни в религиозном символизме русской традиции. Мир горний и мир дольний, внутреннее и внешнее, даже духовное и материальное выражаются в нем через свои противоположности: экс-центричная фигура блаженного оказывается здесь фокусом социума, духовная сила воплощается в святых мощах и декоруме ритуала, не сливаясь с материальностью мира (такое отождествление, политически равнозначное тоталитаризму, взрывает систему). Правда жизни предстает, как и свойственно декоруму, именно тенью внутренней правды, одновременно опустошая быт и сообщая ему эстетическую значимость. А в центре культуры стоит понятие чина, чинопоследования, которое означает, собственно, возведение индивидуального существования к родовой полноте бытия. Чин воплощает ось интенсификации жизненного опыта и принадлежит иерархическому порядку. Творимая им культура не знает ни субъекта, ни объективного мира. Она взывает к чистому Присутствию – одновременно пределу явленности и сокрытости. В этом смысле она живет чудом.
Удивительно, что в истории России никто не дал сколько-нибудь точного и систематического описания действительных принципов русского уклада, хотя успех ее отдельных идеологий объяснялся способностью, пусть даже почти бессознательно и в извращенной форме, использовать их в политической практике. Русская история есть результат систематического непонимания русским обществом собственных устоев. Ясно, что власть и народ в России не связаны чем-то подобным общественному договору, но прочнее законов их соединяет некий молчаливый, тайный уговор или даже сговор, обязывающий жить по неписаным «понятиям» русского драпа.
Вопреки распространенному мнению русская цивилизация не примитивнее, а много сложнее европейской. Русские приветствуют друг друга «хитрым глазком» (опять Розанов), и в России все делается, как известно, «с точностью до наоборот». Именно формальная рациональность западного типа, стремящаяся все в России «поставить на свои места», порождала в русской истории избыточное насилие и всякую чрезвычайщину. Французы говорят, что Декарт в России сошел с ума. Тем лучше. По крайней мере, становится понятным, как не действовать в России.
Современная медиакратия усовершенствовала принципы русского драпа, потому что сделала единственной реальностью сам «общественный театр» и, соответственно, в противоположность западным «представительным демократиям» вывела власть за пределы видимого. Экран медиа-пространства позволяет видеть ровно в той мере, в какой он скрывает. «Царь» и «вор» – два главных персонажа русской политики – наконец-то непостижимым образом сошлись воедино, а чаяния народа по части драпа нашли свое совершенное воплощение в подвиге разведчика. И если этот последний открывает свое лицо и получает звание «национального лидера», то он по русскому обычаю отвергает и то, что привело его к власти.
Что делать с русским драпом? Ответ может дать попытка рассмотреть его в свете сравнительного изучения культур.
Типология цивилизаций
Если цивилизация определяется способом артикуляции внутреннего самообраза человека или даже, говоря шире, человеческого присутствия в мире, то можно выделить две логические или, по-другому, метаисторические возможности этого действия. Первая состоит в отождествлении сознания с его предметным содержанием, сведении сознания к сознаванию чего-то. Вторая предполагает сведение сознания к его пределу, к акту (само)превращения. Первый путь соответствует классическому западному образу сознания как восковой дощечки, на которой запечатлеваются идеи или формы доступные лишь умозрению. Вторая возможность получила развитие в восточной мысли, которая видела в сознании светоносный поток в идеале покойный и гладкий, как чистое зеркало, которое хранит в себе, но не удерживает образ мира и, конечно, не сливается с ним. В таком случае сознание оказывается полем для игры творческого во-ображения и пре-ображения, и сама память, как предположил еще Бергсон, представляет виртуальную параллель действительного, образом того, чего никогда не было в прошлом.
Два указанных модуса человеческого самопознания, конечно, не совпадают полностью с оппозицией Запада и Востока. Второй тип миросозерцания был весьма влиятелен в культуре средневековой Европы, выстроенной на символизме преображения в ритуальном действии. Он занимает видное место в философском наследии Лейбница, Баадера, Ницше, Бергсона, Хайдеггера, Мерло-Понти, Делеза и многих других европейских философов. Но нельзя отрицать, что первый подход к проблеме сознания наиболее полно выразился в античной мысли и особенно философии Нового Времени. Переход к Модерну ознаменовался редукцией условий знания к строгой оппозиции субъекта и объекта (каковая, как стало ясно теперь, была чистой воды мифом) и забвением внутренней глубины опыта, соответствующей преемственности перемен. На рис. указаны модернистская и восточная (традиционная) модели миросознания.
Внутреннее Внешнее
Внутреннего С. О. внешнего
Пунктирными линиями отмечены, во-первых, внутренняя глубина всецело деятельного, самопревращающегося духа, которой соответствует «тень вещей» или культура как декоративное, орнаментальное качество бытия. В культурной практике ее прообразом выступает категория «чина» как символического, т.е. проникнутого сознанием и притом творческого, творящего действия. Мистическая глубина «внутреннего человека» и декорум общественной «персоны» связаны надлогической, не поддающейся формальной рационализации связью. «Духовный реализм» есть плод ритуального ведения-действия, и соотносится он с опытом присутствия живого, сознающего тела, которое в своем пределе воплощается, по слову В.Муравьева, в «сверхвременном порядке жизни соборного тела», оно же «тело Христа», «тело Будды». Именно тело выступает посредником между внутренним и внешним измерениями существования в их крайнем, установленном традицией виде: как сверхлогическое соответствие между внутренностью внутреннего, «сокровенной клетью сердца», и внешностью внешнего – «тенями», «отблесками», «эхом» бытия, предстающего бесконечной глубиной само-подобия. Внутреннее и внешнее здесь соотносятся по принципу «таинственного совпадения» противоположностей вне субъектно-объектного параллелизма. Сущность этого тела – пустота как отсутствующая, пустотная, бесконечно утончающаяся дистанция самоподобия. Последняя предстает предельно насыщенной паузой, мгновением интенсивно проживаемой жизни, средой и фокусом, средоточием всего сущего. В ее свете все существует ровно в той мере, в какой оно не существует, и миру пред-оставлено бесконечное богатство разнообразия.
В даосском каноне «Дао-дэ цзин» (гл.15) сказано: «праведные мужи древности были утонченны в мельчайшем и сообщительны в сокровенном». Таковы плоды духовного бодрствования на Востоке: речь идет о постижении сокровенной преемственности превращения в бесконечно малой дистанции самоподобия или, что то же самое, самоотличия. Или, по-другому, о чистой сообщительности как дифференциальном отношении различных векторов силы.
В таком случае принципом классификаций явлений, исходной единицей мироустройства служат не предметы, идеи, формы, сущности и т.п., а качества ситуаций потенциально бесконечно сложных, иными словами – вещи, взятые в перспективе их творческих метаморфоз, погруженные в бездну их виртуального бытия, в конечном счете – всевместительная пустота всякой функции. Так в притче даосского философа Чжуан-цзы пустота Неба дает быть миру, пустота природных отверстий дает быть разнообразию жизни, пустота отверстий флейты дает быть музыке. Здесь каждая вещь оправдывается ее пределом и существует в меру ее соотнесенности с миром. Примечательно, что китайцы классифицировали живые существа по суставам и отверстиям в теле. А поскольку все сущее указывает на несущее (все в себе несущее), все есть, повторим еще раз, собственное подобие, свое инобытие.Понятно в таком случае, почему в китайской традиции конфигурации творческой силы жизни формулируются откровенно иносказательным, даже фантастическим языком, являют очевидную мнимость: «черный дракон выходит из пещеры», «белый аист расправляет крылья» и т.п.
В этой картине мира существенны не идеальная форма цветка и не единичный цветок как таковой, а одна-единственная черта, часто почти незаметный нюанс, отличающие его от других цветков. Здесь вещь полнее всего выражает себя (точнее, пустотно-отсутствующее всеединство жизни) в тот момент, когда переходит в нечто иное и, стало быть, выглядит странной, необычной, даже гротескной. Но в функциональности всеединства вещи «продолжаются друг в друге» (Чжуан-цзы), мир сложен из себя и в себя складывается, составляет одно живое тело – тело свернувшегося кольцами дракона и притом неуловимо-стремительное, как «вспышка молнии» или «полет птицы». Аналогичным образом событийность удостоверяется актом всеобщего рассеяния, она есть всевременность и возобновляет себя повсюду, вечно временит, но реализует себя в само-различии.
Природа со-бытия – срединность, центрированность, т.е. одновременно средоточие, среда и промежуток, нечто, согласно трдиционному определению, «не имеющее фиксированного положения, но владеющее всеми образами». Срединность – принцип мировых перемен и поэтому она есть главное условие человеческого творчества. Подлинное творчество требует душевной гармонии. По той же причине центрированность нельзя установить или определить, ей можно только «следовать», оставляя все. Но она предстает как раз-единяющее, раз-воплощающее единство множественности, акт раз-делки, разделки как выделки бытия, которая, устанавливая всеобщие соответствия, может стать предметом сделки, но и учит нравственной со-ответственности. Не поддающийся локализации, этот акт всегда не-уместен, пребывает «на стороне», действует наперекор видимой тенденции. Он приходит как возвращается. В языке он заявляет о себе стратегиями само-ограничения, само-сокрытия смысла, как представлено в «литературе мудрости» – афоризмах, фрагментах, притчах и прочих видах самоупраздняющегося иносказания. Ибо он возвращает все словесные фигуры к актуальности сказанного, к безусловной явленности присутствия.
Мир расцветает в пустыне подлинного события – там, где разделалось с собой, распустило свою хватку сознание, сподобившееся – иначе и не скажешь – просветления. Реальный мир может быть только бесконечно разнообразным – или его вообще не будет. Этот мир несет в себе обетование неисчерпаемого обновления. Поэтому в отличие от идеологического прожектерства он берет за живое, ведь это мир вездесущей центрированности, пребывающий всегда внутри.
По той же причине событийность устанавливает главным принципом человеческой практики то, что было названо выше чистой сообщительностью как предела общения и всех сообщений. Она, повторим еще раз, воплощает претворение индивидуального существования в родовую полноту бытия, типовую конфигурацию жизненных сил. Восхождение к всеединству сообщительности прежде и выше субъективной рефлексии возвращает сознание к первичному фантазму бытия, где еще – или уже – нет разделения между присутствием и отсутствием, актуальным и виртуальным. Мы уже знаем, что в культуре оно соответствует собирательно-соборному потенциалу ритуального действия (по-русски «чину»), в личном опыте – пределу со-средоточенности сознания, духовному бдению.
Преображение требует метанойи, превосхождения ума. Оно оперирует своеобразной противологикой, которая утверждает, что рассеяние ведет к высшему единству, что «последние станут первыми» и умаливший себя возвысится. Борьба за сохранение этой противологики или, точнее сказать, духовной глубины опыта была главным делом восприемников традиции во всех культурах. Борьба почти безнадежная, коль скоро речь шла об удержании иного значения форм и слов посредством символической инверсии. На позднем этапе она может приобретать вид разрушительного, почти кощунственного гротеска, как в случае с русским юродством, где святость низводится до предела жизненной имманентности – тела в его наготе. Аскеза есть, конечно, преодоление тела, но лишь при условии его сохранения. Тело святого свидетельствуют о нераздельности абсолютно-внутреннего и абсолютно-внешнего там, где нет формальных критериев истинности суждения. На Руси правда и святость есть потому, что в ней есть – и не могут не быть – святые мученики. И само тело святого превращается в мощи, являя собой чудо взаимопроникновения праха и духа,
Между тем всегда есть возможность применить к металогической реальности само-подобия законы умозрительной доказательности. Исторически этот соблазн выразился в стремлении дать сугубо внутренней реальности архетипа внешний образ, представить «небесную» ось бытия в плоско-земных формах. Отсюда и неизбежность насилия, каковое есть не что иное, как утверждение посредством субъективно-произвольной воли параллелизма внутреннего и внешнего. Есть очень тонкая, легко преступаемая, но очень существенная грань между насилием как свидетельством символической инверсии и насилием как выражением сознательной воли опознать эту инверсию. Первое удерживает символическую глубину сознания, второе ведет к буквалитзму и формалистике. Соответственно, в Московском царстве понятие «правды» как истинности духовного опыта с течением времени все решительнее отождествлялось с внешними, материальными атрибутами традиции, буквой обычая. Усилия, направленные на оправдание московской культуры чина, на самом деле подрывали ее устои. В итоге наследие традиции, изначально представлявшее собой собрание типовых форм или, точнее, моментов типизации опыта, типикон, оказалось соотнесенным не с опытом духовного подвига, а с образами внешнего мира. Мета-логический идеал традиции был заслонен и подменен идео-логическим мировоззрением западного типа.
В каждой культуре имелись и особые явления в литературе и искусстве, соответствовавшие указанному переходу. Для Европы такой переход обозначен стилем барокко с его двухуровневой организацией мира и пышным орнаментальным обрамлением уже реалистических образов. Примечательно, что барокко стало и последней фазой развития русской православной архитектуры – надо думать, как последнее напоминание о взаимообратимости Неба и Земли. Но интересно, что и в Китае художественный стиль 17 столетия отмечен параллельным усилением натуралистических и экспрессивных элементов изображения. Особенно ярко эта коллизия проявилась в популярных тогда «пейзажах сновидений» – натуралистических в отдельных деталях и фантасмагорических в их композиционной цельности. В обоих случаях память о традиции, низведенная до орнаментального и декоративного начала, быстро угасла под натиском нового рационализма субъектно-объектных отношений. Вестернизация восточных обществ была подготовлена внутренней логикой их эволюции.
К Евразийскому содружеству: скифство vs чайнатаун
Теперь попробуем взглянуть на место России в мире в максимально широкой перспективе. Разного рода «аномалии» России, бьющие в глаза при сопоставлении ее с Европой, оказываются в действительности следствием уникального, нигде более в мировой истории не встречающегося столкновения или наложения двух способов отношения к миру, двух познавательных матриц, исторически соотносящихся с Западом и Востоком. Русский зов «придите и владейте нами» уже выглядит для нас свидетельством не слабости, а стратегической мудрости, которая, как выясняется, составляет подлинную основу восточного мировоззрения. Это мудрость молчания русской земли, «безмолвствования народа», которая только на первый и поверхностный взгляд кажется немотой и равнодушием, а на самом деле хранит в себе глубокий нравственный смысл. Конечно, за нее приходится платить постоянным, как нынче говорят, «кризисом идентичности», ощущением разрыва между внутренним опытом и внешним самообразом, хотя мы имеем дело не с шизофреническим раздвоением и тем более лицемерием, а с высшей искренностью самопознания. Возведение или, лучше сказать, очищение сознания до бдения первичного самоаффекта, динамической цельности жизненного опыта открывает нашу глубинную идентичность и учит правде смирения, т.е. жизни с миром в мире. Такое возможно только в пространстве всеобщего (само)подобия – самого по себе бесподобного. В этом пространстве мы способны собраться в себе, «оставить все» и видеть вокруг только мертвые, отчужденные следы прошедшего, а значит, быть свободными от них. Тем самым для нас становится возможным и стратегический подход к любому делу, мы можем всегда идти «другим путем» и притом неизменно успевать, пред-упреждать события и, следовательно, достигать успеха, ни с кем не враждуя.
Цивилизация Востока воздвигнута на формирующей всякую стратегию интуиции бытийного разрыва, беконечного саморазличения. Ее видимая верхушка – те самые «китайские церемонии», демонстративная обходительность, которые слишком часто кажутся европейцам пустой игрой и зловещим коварством. Да, это игра, но совершенно серьезная и честная, поскольку она воспроизводит бытийные основания человеческой природы. В ней, как в любой игре, есть победители и проигравшие, мастера и дилетанты, но в ней побеждает тот, кто развил в себе большую чувствительность и покой души, и поэтому она глубоко моральна. Если Китаю суждено победить в глобальной игре, то лишь посредством примирения мира.
Пустота самоподобия возвращает к началу сознания, культуры и самой человеческой социальности. Вместо оппозиции активного субъекта и пассивного объекта с ее неразрешимыми антиномиями она созидает особые качества, или типы, ситуации в своем роде уникальные, но воплощающие родовую полноту бытия. Поэтому они имеют свой потенциал развития, наполнены родовой мощью жизни. Эту силу самих вещей нельзя познать, ею нельзя управлять, ей можно только следовать. Соединяя субъективное и объективное, актуальное и виртуальное измерения бытия, она указывает на природу идентичности как родной инаковости.
Здесь тоже есть свои вариации, иногда существенные. Так, в культурах склонных к отождествлению идеи и вещи, что свойственно, например, Европе, а среди азиатских стран Японии, национальная идентичность сопряжена с романтическим чувством, даже культом чуждости, отстраненности этих же самых национальных «корней». Японцы при всей их национальной гордости ценят в себе способность, пользуясь термином В.Шкловского, эстетического «остранения», а в своей стране – ее экзотические черты. Напротив. цивилизации «континентального» типа – Китай, Америка – отличаются стремлением приручить, «одомашнить» иное и чужое, сделать мир полем игры, превратить его в Диснейленд. Сами по себе эти моменты схождения своего и чужого, наличного и чаемого столь важны в жизни современного человека потому,что они отмечают точки интенсификации желания, лишь относительно недавно освоенных и методически эксплуатируемых капитализмом.
В России этот исток жизненного опыта представлен, пожалуй, в наиболее непосредственном и откровенном виде равно далеким и от эстетической созерцательности, и от игровой увлеченности, хотя русскому характеру не чуждо ни то, ни другое. Недаром Россия снискала прозвище «мира миров». Правда всечеловеческого проявлена здесь ярче всего, но осознана, пожалуй, менее всего. Русская идентичность пронизана самым радикальным самоотрицанием. Отсюда и природная искренность русских, вечно занятых исканием правды, и их не менее поразительная нечуткость друг к другу, и их сильнейшее чувство юмора, и неискоренимое лукавство.
Русскую склонность к вранью, к хлестаковщине нередко списывают на азиатское, «скифское» начало России, и это было бы верно, если бы речь не шла о вкорененной азиатскому мышлению стратагемности. В России она таковой не осознается и в традициях национального самосознания никакой роли не играет. Но речь, конечно, не о том, чтобы перекрасить Россию в азиатскую державу. Вопрос в том, каково предназначение России в поиске точек соприкосновения Запада и Востока.
Пора задаться вопросом: что означает принцип саморазличения, самопревращения, он же принцип самоподобия и со-бытийности всего сущего применительно к обществу и власти? Прежде всего – признание несходства, несопоставимости того и другого вплоть до их полной непроницвемости, сокрытости друг для друга. Кстати сказать, духовная просветленность на Востоке как раз соответствует способности видеть все, ни на чем не останавливая взгляд, ничего не замечая. На этом основании зиждились великие империи Востока, которые имели как бы два полюса: «небесный» полюс власти, невидимой и непостижимой для простых людей, и «земной» полюс повседневной жизни, столь же непознаваемой в ее анонимной стихийности, как и небесная бездна вверху.
Нам уже известен способ связи этих двух измерений политического тела на Востоке: претворение или, можно сказать, вовлечение всех вещей в типовое качество обстановки, непреходящую преемственность становления, вселенский танец вещей, структурируемый по образу двойной спирали, где каждое действие имеет свой зеркально-перевернутый образ, свое противо-действие. Реальность здесь предстает неисчерпаемой конкретностью существования, рассеивается в бездне жизненных метаморфоз и доступна только символическому выражению.
Власть на Востоке и есть, в сущности, право определять порядок всеобщей гармонии – бесконечно разнообразный и все предваряющий–в «текущем моменте». Эта власть абсолютна, ибо проистекает из первозданной цельности, предшествующей оппозиции субъекта и объекта и всякой предметности. Невозможно ее оспорить и тем более ей противостоять, ей можно только (на)следовать, возводя существование к его родовой полноте. Заметим, что качество ситуации не есть абстрактная идея или понятие, не существует вне конкретных жизненных «случаев», так что преданность образцам и нормам в том же Китае не только не исключает, но даже предполагает свободу маневра в поведении. Под сенью незыблемого идеала державности возможно любое действие, причем каждое действие заключает в себе еще и скрытый, противоположный смысл, приобретает характер маневра. Отсюда знаменитый китайский идеал «недеяния» как архетипа всякого действия.
История китайской цивилизации, да и, в сущности, всех цивилизаций Восточной Азии – это поле непрерывной борьбы «Небесной» империи за сохранение своей прерогативы определять качество гармонического всеединства «Поднебесного мира». Все эти нескончаемые перечни свойств предметов и жизненных ситуаций, человеческих характеров и поступков, которые наполняют памятники китайской словесности, кажутся в лучшем случае утомительным курьезом, пока мы не увидим в них акт осуществления власти в его самом чистом виде: установления типовых качеств вещей, точек интенсификации жизни или, говоря языком китайской траддиции, «животворения живого», в которых собирается мир. «Небесный» и «земной» полюса социума связаны здесь тем, что можно назвать фантазмом преображения или преображающим фантазмом. Поясним это замечание примером: для наблюдателя, стоящего на вершине небоскреба или созерцающего мир из бесконечно удаленной точки (как принято на китайских пейзажах), кишение уличной толпы преображается в некий эстетический образ запредельный взору и даже воображению отдельных индивидов. Для такого наблюдателя люди, сами того не сознавая, как бы сообща выписывают неведомый иероглиф родовой полноты жизни; они, говоря словами М. де Серто, «пишут, не умея читать». Не случайно каллиграфия – высшее искусство на Востоке.
Власть на Востоке осуществляется в этом пространстве самопреображения, которое предстает средоточием, т.е. средой-фокусом мировых метаморфоз, сферой или, повторим еще раз, двойной спиралью, где каждое действие уравновешивается его противодвижением, и поэтому каждое событие возвращает к покою (динамическому) всеобщей центрированности. Пространство самопреображения превосходит и субъективные представления, и так называемую объективную действительность. В восточных традициях оно описывается цветистым, иносказательным языком первичного фантазма опыта, который превосходит оппозицию буквального и переносного смыслов. Это язык фантастически реального и реальности фантастического.
Традиционная государственность на Востоке структурируется по двум указанным полюсам «политики метанойи». В своем пределе она есть имперское государство, возвышающееся над племенными общностями, оправдываемое «небесной» глубиной практики. Другой ее полюс – чистая актуальность той же практики, стихия повседневности, лежащая по ту сторону права и даже обычая. Первое соответствует пределу трансценденции, второе – пределу имманентности, и между ними существует неопределимая, но нерасторживая внутренняя связь. Империя периодически встает из многообразия локальных культур, созидаемая упованием «небесной полноты» жизни. И с такой же регулярностью неудержимо растворяется, уходит в песок чистой актуальности быта. «Вы будете искать Чингис-хана, но нигде не найдете его». Но речь идет, повторим еще раз, о двух полюсах одной жизненной оси. Распад империи не отменяет предпосылок к ее возрождению.
Политика метанойи, таким образом, не сводится к тому или иному политическому образованию. Она есть явление, по сути, метаполитическое. В ее пространстве власть утверждает «таковость» всякого существования — реальность одновременно универсальную и конкретную – и тем самым восполняет все сущее. В восточных языках управление означает выправление. Поэтому на Востоке властвующий, как сказано в даосском каноне «Дао-Дэ цзин», «все превосходит, будучи сам по себе», но в этом состоянии «само-превозмогания» оказывается воистину состоятельным, ибо в нем он со-стоятелен с миром. Властитель восточной империи повелевает всем миром именно потому, что им оправдывается бесконечное разнообразие жизни.
Метаполитика – это способ владеть средоточием жизненной среды, структурообразующей пустотностью бытия. Она требует пан-оптического видения, своего рода все-видения, столь ярко запечатленного, помимо прочего, на китайских пейзажах. Но все-видение неотличимо от не-видения, что значит: оно учит видеть в явлениях мира только преображение, эффект действия, чистую явленность жизни, как о том говорится в китайской сентенции, описывающей природу просветленного сознания: «Лунный луч достигает до дна пруда, не оставляя в воде следа». Сознание-зеркало не имеет содержания или собственной «природы». Оно всецело функционально и поэтому эффективно; оно хорошо тем, что с ним удобно и привольно жить. Оно воплощает первозданную свободу самой бытийности бытия.
Человечеству еще предстоит освоить иносказательный язык метаполитики, который служит не именованию, даже не познанию, а внушению, чистому аффекту, т.е. тому, чем живет сердце. Это язык открытости миру, растворяющий всякий порядок суждения.
Ясно, что метаполитическое пространство не требует жесткой централизации. Оно возводит бытие к между-бытности, учит ценить интересное (inter-esse) в жизни, периферийное, стороннее, маргинальное. Недаром самым убедительным современным проявлением традиционного китайского социума и вместе с тем формой глобализации Китая стал чайнатаун, «китайский квартал» современных мегаполисов, существующий вне китайской государственности (и, добавим, вне или, точнее, прежде всякой политики). Чайнатаун питается глобальными стереотипами китайской цивилизации и распространяет их, превращая в товар и коммерческий бренд. В этой своеобразной фабрике по производству символов Китая культура уже не прислуживает идеологии и политике, а сама устраивает жизнь по своему образу и подобию. На наших глазах возникает деполитизированный Китай, в котором китайский социум возвращается к стихийным основам своего быта, представленного, как и подобает в глобальном мире, в его «виртуальном», стереотипном, нередко гротескно утрированном, одним словом – превращенном и как бы фиктивном виде. В творимой здесь виртуальной идентичности «китайского мира» от китайской кухни и китайского интерьера до китайских увеселений, фильмов про «кунгфу», историй о китайской мафии и прочей «китайщины» нет ни идей, ни догм, ни привязанности к прошлому, ни даже упований на будущее. Здесь царствует чистый динамизм «жизнетворчества», сплетающий явления жизни в единое тело по-праздничному изобильного, яркого, выставленного напоказ народного быта. Здесь есть только жизненные подробности, конкретные «моменты» существования – одновременно зрелищные и доходные, ибо здесь каждая вещь, будучи обращенной в знак, предлагает себя потреблению. Чайнатаун – игровой и игрушечный мир эстетически созерцаемой мимолетности, новое издание традиционного идеала «красоты быстротечности жизни». Но главный секрет Востока как раз и заключается в знании того, что нет ничего более прочного и долговечного, чем сама эфемерность жизни.
Итак, евразийское пространство формирует метаполитический социум. Совсем не случайно в центре его находятся обширные пустыни и степи – великая пустота, которая является условием всех форм. Она же предопределяет присущий Азии культ места или, точнее, вместительности мировой утробы, вмещающей в себя все культы и культурные традиции. Азиатская религия места допускает многоуровневую иерархию религиозных практик от шаманизма до секулярного буддизма, причем все ступени этой иерархии так или иначе указывают на преемственность небесного и человеческого начал. Тибет, Монголия и казахские степи образуют внутренний слой этого духовно-географического ядра, тяготеющий к «небесному» полюсу метаполитической оси азиатского социума. Россия и Китай представляют два опорных крыла волшебной птицы Евразии, и оба эти региона отличаются креном в сторону «человеческого» полюса метанойи (в России, впрочем, не свободного от острых внутренних конфликтов).
В очерченном здесь евразийском пространстве самопревращения сами понятия центра и периферии оказываются вовлеченными в отношения взаимного обмена и внутренней преемственности: центр Евразии оказывается периферией ее великих цивилизаций и служит в большей степени коридором взаимного влияния культур. Что касается России, то важная и даже ведущая роль маргинальных групп российского социума в становлении русского мира хорошо известна, хотя мало изучена и еще меньше осмыслена. Много было сказано, в частности Э. Ухтомским, о периферийном характере самого пространства встречи и взаимодействия русской и китайской цивилизации. На Дальнем Востоке горы, сопки, могучие реки и глухая тайга предопределили как бы «слепой» характер русско-китайского общения: обе стороны действовали, можно сказать, наощупь, больше гадали друг о друге, чем рассматривали друг друга. И эта слепота, как ни странно, благоприятствовала синэргетическим связям двух великих цивилизаций, способствовала росту взаимного дружеского интереса соседних народов.
Вот еще одна затронутая выше, но пока не нашедшая своего места на страницах культурологических трудов тема: слепота. Последняя может быть целительна: «претворяющий Дао подобен слепцу, идущему без посоха», говорили древние китайские учителя. Слепота – залог высшей цельности внутреннего опыта равнозначной предельной сосредоточенности духа (что является, как было отмечено выше, законом больших пространств). Готовы ли мы признать, что сама ограниченность видения, темная бездна неведения могут быть источником самого чистого и полного знания и условием человеческой социальности подобно тому, как сама конечность человеческого существования является условием высшей свободы?
Эта догадка подтверждается, по крайней мере, тремя особенностями культурно-исторического бытия евразийского пространства.
Во-первых, евразийское содружество действительно основывается на совместности и даже, можно сказать, со-вместительности его устроения по известному принципу восточной мысли: «вещи вмещают друг друга», «тьма вещей – как сеть, в которой нет начала» (Чжуан-цзы). Разделяя мир, мы разделяем нашу совместность. Или, как сказал Лао-цзы, «великий резчик ничего не разрезает».
Во-вторых, между-бытность само-различия утверждает бесконечность в самой конечности всего сущего, точнее, бывающего. В нем и благодаря ему становится возможной сама освобожденность свободы. В казачьем фольклоре не зря воспевается вольная воля, и последняя с неумолимой закономерностью соотносится со… смертью.
В-третьих, евразийское содружество не нуждается в трансцендентных принципах организации общества и политики. Азиатские общества, не исключая Россию с ее приверженностью к ритуалистической религии, сплочены не идеями и даже не ценностями, а опытом постижения глубочайших основ сознания, который обеспечивает необыкновенную сплоченность людей даже вне и помимо общественных институтов.
Сущностная периферийность пространства России выразилась в теме русского скифства; теме, явно окрашенной в утопические тона, но способной стать посылкой эффективной стратегии глобализации России как раз в рамках евразийского содружества. Скифы у Блока и других писателей революционной поры принципиально отличаются от «свирепого гунна» и вообще не имеют отношения к азиатской этнографии, лишены культурной идентичности, но культурно всеядны, даже космополитичны. Это общность не этноса, а судьбы и даже судьбоносного выбора. Выбора, который ведет к державному величию через уступание – совершенно в духе излюбленной тактики скифов: заманить противника вглубь своей пустынной территории, чтобы победить или, точнее, растворить его.
Скифство и есть тот символ самопреображения для России, который составляет ее самую устойчивую, жизненно необходимую для нее утопию. И одновременно символ невидимой руки империи, которая растворяет всякую историческую предметность и временами сама растворяется в ней, чтобы когда-нибудь заново восстать из собственного пепла.Заметим, что скифство и чайнотаун зеркально дополняют друг друга: первое – утопия инаковости, второе – утопия имманентности.
Как ни важна для России тема скифства, сейчас для нас важнее уяснить политический смысл гипотетического евразийского содружества (ибо Евразия как вездесущий разрыв центрированности не допускает формальных союзов, а только со-владение миром, commonwealth, и мы, повторим, разделяем событийность мира, когда разделяем мир). Как уже говорилось, евразийское пространство отличается политической нейтральностью, способно вместить в себя самые разные политические режимы или, если угодно, имеет метаполитический базис. Событийность и сообщительность указывают путь «из монады в номады», устанавливают связь между «небесным» и «человеческим» полюсами общественной практики, пред-оставляют свободу проявлениям исконной человеческой социальности.
Как ни удивительно, в этой точке евразийская метаполитика неожиданно смыкается с новейшими открытиями политической мысли Европы, где приобретают все большее распространение идеи «постосновательной» (postfoundational) политики. Это новейшее течение политической философии делает акцент на различии «политического» и конкретных форм политики или, в духе Хайдеггера, онтологического и онтического измерений человеческой практики. Соответственно, оно реабилитирует «макиавеллианский» момент в политике, т.е. несовпадение (составляющее, как мы помним, сущность стратегии) цели и средства в политическом действии. Политическое в данном случае обозначает исконное отсутствие конституирующего принципа в политике, что является условием возможности всех оснований политики в ее актуальном состоянии. После работ К.Лефорта считается, что «постосновательное» в политике соответствует господству «радикальной демократии» в обществах Запада, но оно, кажется, больше подходит для уже явственно надвигающегося «постдемократического», политически неопределенного общественного уклада.
Пока ограничимся констатацией того, что и русское скифство, и китайский чайнатаун являются могучими общественными символами, позволяющими удерживать дистанцию между политикой, всегда нацеленной на тоталитарное единство, и политическим, которое в его чистом виде «познавательного разрыва» утверждает принципиальную разнородность, дискретность социума (что в категориях социальных институтов на Востоке выражено в приоритете школы). Возможно, разумное равновесие между политическим и политикой может быть найдено в самом сопоставлении, со-стоятельности скифства и чайнатауна, ведь они обладают структурным сходством, едины в самом истоке их жизненности – точке метанойи, самопреображения, которое выводит «небесный свет» на плоскость обыденной жизни.
В этой точке неожиданно обнаруживается возможность встречи постдемократической фазы политики на Западе и тем, что можно назвать политической все-вместимостью Востока. Это сближение касается не только политической практики. Оно имеет глубокие бытийные корни, если иметь в виду, что метанойя в политике неразрывно связана с завещанной В.Беньямином темой «профанного озарения»; темой хорошо известной на Востоке, где твердо верили, что «Небо видит глазами и слышит ушами народа». Сегодня мы уже способны видеть, что в со-вместном усилии самопреображения открывается перспектива явления действительно глобального мира, который вместит в себя единое в своем бесконечном разнообразии человечество.