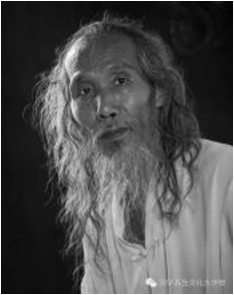Загадка бессмертия в древнем даосизме
Мы живем, когда забываем о жизни, и умираем, когда помним о ней.
Тереза Бреннер
Бессмертие вообще загадка. А в книгах древних даосов его природа загадочна вдвойне.
Начнем с Лао-цзы. Патриарх даосизма, как и другие древние даосские авторы, говорит на разные голоса, разными интонациями. Иногда он изрекает декларации. Иногда бросает миру упреки и насмешки, облитые сарказмом. А порой – это обычно бывает в середине или в самом конце пассажей, составляющих отдельные главы, или статьи, его канона, – доверительным тоном, как бы полушепотом сообщает какие-то малопонятные, но, по всему видно, самые важные для него истины. К числу таких высказываний относятся его слова о смерти и бессмертии. Вот три его известных сентенции на эту тему. Я намеренно привожу их в максимально приближенном к оригиналу переводе и в отрыве от контекста. Желающие могут ознакомиться с ним сами.
«Исчезает тело, а гибели нет». (Гл.16, 52)
«Умереть и не сгинуть – вот что такое долголетие». (Гл. 33)
«В того, кто умеет пестовать жизнь,.. тигр не вонзит когти, и воин в битве не вонзит клинок, потому что в нем нет места смерти». (Гл. 50)
Западным переводчикам эти сентенции «темного мудреца» кажутся настолько странными, что они предпочитают даже ценой искажения смысла слов и игнорирования контекста сделать из них что-то более понятное и здравомысленное. Например, известный американский китаевед Роджер Эймс концовку 16-ой главы толкует в том смысле, что «мудрый до самой смерти не ведает опасностей». Во фразе из гл. 33 он меняет знак «сгинуть» на близкий по начертанию иероглиф «забыть» и в итоге получает «умереть и не быть забытым – вот долголетие». А в последней цитате столь же произвольно заменяет выражение «место смерти» на бессмысленное в этом контексте словосочетание «место казни».
Поздние даосские авторы упрощают приведенные изречения на свой лад, видя в них противопоставление тела и духа. Даосский наставник 19 в. Хуан Юаньцзе разъясняет заключительную сентенцию 16-ой главы в том смысле, что погибает материальное тело, а дух и так называемая жизненная энергия (ци) продолжают существовать. В комментарии к гл. 33 Хуан Юаньцзе утверждает, что мудрый, «хотя умирает, но живет, его дух существует столько же, сколько Небо и Земля». Комментарий Хуан Юаньцзе к 50-ой главе более глубок. Мудрый, заявляет Хуан Юаньцзе, «не имеет телесной формы и потому вне жизни и смерти. Он владеет истоком того, что живет в жизни, и умирает в смерти».
Между загадочными недоговоренностями Лао-цзы и слишком понятными разъяснениями Хуан Юаньцзе лежит множество комментариев средневековых даосов, пытавшихся определить существо проблемы. Приведу мнения лишь двух из них. О последней сентенции 16-ой главы даос Люй Дунбинь (9 в.) говорит, что речь идет о чем-то «неизъяснимом»: «Что имеется в теле (в старом китайском языке тело означало также «я». – В.М.)? Чему погибать там, где ничего не имеется?». Комментарий даоса Ли Даочуня (13 в.): «Небо и Земля изменяются, а это не меняется». Аналогичным образом Ли Даочунь трактует и концовку 33-ей главы: «Подлинное единое существует вечно». За четыре века до него Люй Дунбинь тоже говорил, что речь здесь идет о «подлинности вечноживой одухотворенности» и уже отделял бренное тело от подлинного «я» (во): «хотя для мира есть смерть, «я» в действительности не умирает», ибо «одухотворенная природа существует вечно». Что касается последней из сентенций Лао-цзы, то оба наших даоса здесь столь же единодушны. Они говорят, что речь идет о состоянии «подлинной пустоты», когда «забывается и жизнь, и смерть».
Итак, Лао-цзы говорит о бессмертии в парадоксальной манере: человек сохраняет себя (в оригинале «свое тело») тем, что не думает о себе (своем теле). О чем в таком случае нужно думать? Или, может быть, нужно думать именно ни о чем? Лишь единственный раз, в гл.52, Лао-цзы туманно намекает, что избегнет гибели тот, кто «оберегает свою матерь». Позднейшие даосы утверждают, что в человеке действительно есть вечносущее начало, которое они именуют то «одухотворенной природой», то «подлинной одухотворенностью», то «изначальным обликом» или просто «я» (этот список можно долго продолжать). Возникает вопрос, почему даосские патриархи не назвали прямо этот бессмертный субстрат личности, а ограничились скупыми намеками или невнятными иносказаниями? Только ли потому, что еще «не дозрели» до такого понимания, а Хуан Юаньцзе накануне гибели старого Китая дозрел? Или они намеренно избегали формулировок, которые побуждали бы субстантивировать реальность, искать в опыте «предметное содержание»? В таком случае они поступили в высшей степени мудро, не желая выпускать джина субстантивации из бутылки природы. Параллельное существование духа и материи закончится сведением одного к другому и породит плоскую, ущербную картину мира, где спиритуализм станет суррогатной религией. Современная философская мысль как раз отчаянно борется за преодоление оппозиции духовного и материального, субъекта и объекта, даже воображаемого и действительного, которая сделала возможной научно-техническую революцию, но привела к катастрофическим последствиям в сфере общественной и культурной.
Вопрос, конечно, в том, как обосновать бессмертие человека вне языка субстанций и сущностей, неизбежно догматического? Для чего человеку беспредметная пустота? Какая польза от нее, если ее невозможно ни воспринимать, ни мыслить? Для ответа на этот вопрос предлагаю обратиться к 3-ей главе второго по важности даосского канона – книге «Чжуан-цзы». Она носит в общепринятом переводе название «Главное в питании жизни» и состоит из нескольких коротких сюжетов.
Первый и самый длинный рассказ в этой главе посвящен мяснику, виртуозно разделывавшему быков на царской кухне. Мясник говорит восхищенному его умением царю, что он вообще-то любит дао, а оно «выше искусства». Приступая к разделке туши, мясник, по его словам, «не смотрит глазами», но дает претвориться «одухотворенному желанию» в себе и полагается на «небесное устроение» тела быка. Его чувствительность обострена настолько, что он видит мельчайшие нюансы тела, его «небесное устройство». И трудится он так, словно исполняет ритуальный танец и ведет свое орудие, которое «не имеет толщины», только через полости и сочленения туши, где ножу есть «предостаточно места, где погулять». Через некоторое время он доходит до «особенно трудного места» и тогда действует еще тщательнее, на мгновение словно замирает, и туша вдруг распадается, «как ком земли рушится на землю».
Ключ к пониманию всего сюжета содержится в отдельном изречении, его предваряющем: «всегда исходи из срединного». Многие комментаторы видят здесь указание на задний срединный меридиан энергетической системы организма, «ось пустотности», скрепляющей тело. Кроме того, понятие «срединности» может означать здесь различение недоступное рефлексии. В этом качестве оно напоминает «тонкую рассудительность» у преп. Исаака Сирина (см. Исаак Сирин, Слова Подвижнические. Слово 45). Итак, речь идет о срединности или, точнее, центрированности бытия, в сущности – о сфере как внутреннем самообразе человека и образе универсума, а также фокусе мирового круговорота, который собирает все вещи в некое целое, не подчиняя их абстрактному принципу. Хотя центрированностью держится мир, она не является субстанцией или идеей, не тождественна себе, но представляет собой, по сути, дифференциальное соотношение сил, бесконечно утончающееся саморазличение. Ее действие рассеивает формы только для того, чтобы вовлечь их в мировой ритм жизни. Вводя быка в ритмическую целостность мира своим элегантным танцем, виртуоз кухонного ножа на самом деле дарит быку полноту бытия. Ибо, как ни ничтожен человек перед мирозданием, он обретает свое величие и, более того, жизнь вечную в своей причастности к вселенскому танцу вещей.
Noblesse oblige: безупречное соответствие требует преображения, возведения себя в вечносущий тип – кристалл вечной жизни. Один из комментаторов «Чжуан-цзы» даже написал, что бык – вероятно, от радости – не замечает, как его разделывают. Но рассказ об этой диковинной кухонной операции оставляет нас в недоумении. А был ли мальчик, то есть бык? Его разделка произошла наяву или просто привиделась царю? Все дело в том, что интересующая нас центрированность существует только виртуально, – как всевместительная пустота, которая есть настолько, насколько ее нет. Она – эхо неслышных голосов, тень пропавших тел, отклик без воздействия или, как говорили сами даосы, «дерево без корней». Речь идет о пространстве чистого со-прикосновения, соответствия, восходящих до нравственной со-ответственности. В них сознание проясняет себя, уступая себе, идет в рост, умаляя себя. Следование центрированности (а центрированность всему предшествует, и ей можно только следовать) воспитывает сначала любезное, а потом и любовно нежное – единственное морально оправданное – отношение к бытию. Мир расцветает в пустоте сознания, которое разделало себя, именно: раз – и сделало себя в «неделающем действии» равнозначном свертыванию в себя, уходу в глубину.
Как предельно краткий «промельк» самоотсутствия момент центрированности предстает фантазмом нерушимого покоя. Мудрый у Лао-цзы «уподобляется своему праху», а у Чжуан-цзы – «высохшему дереву и остывшему пеплу». Но это покой, начиненный ужасающей мощью «цепной реакции» бытия. Как сказано о мудреце в той же книге «Чжуан-цзы»,
«Сидя как труп, являет драконий образ (апофеоз жизненной силы – В.М.).
Храня глубокое безмолвие, издает громоподобный глас».
Теперь нам не покажется странным еще один сюжет из той же главы «Чжуан-цзы» о питании жизни. По преданию, Лао-цзы навсегда уехал из Китая на темном быке (опять бык!) и могилы не имеет. Но этот рассказ посвящен похоронам Лао-цзы (фигурирующего здесь под именем Лао Даня). Друг покойного по имени Цинь Ши (что можно понять как Чудак-Потеря) исполнил обряд соболезнования, но единственный из присутствующих сохранил стоическое бесстрастие. Ибо, по его словам, покойный (очень подходящее слово для подлинно живого!) «следовал тому, что давало время», и умереть вовремя, прямо по завету Ницше, означает «развязать путы», другими словами – освободиться от плена физического тела и какой бы то ни было идентичности. В даосской традиции, заметим, запрещается горевать на похоронах, а даосы любили умереть понарошку, чтобы потом воскреснуть на собственном погребении. Ибо смерть, т.е. полное упокоение есть как раз то самое вечное и вечно отсутствующее мгновение, которое позволяет вернуться к моменту рождения мира.
В заключительной сентенции главы различие между жизнью физической и жизнью, так сказать, виртуальной, пульсирующей по ту сторону круговорота жизней и смертей поднимается до прямо-таки смертельного противостояния. Мы читаем здесь (в моем несколько вольном переложении): «Сколько ни наносить хвороста руками человеческими, он все равно прогорит. Но огонь перекидывается дальше, и никто не знает, где ему конец». Итак, живущие, заботясь о своей жизни, только подбрасывают дров в костер бытия; земная жизнь сгорает в огне небесной жизни, как бык должен распасться, чтобы вернуться к «небесной» полноте своей природы. Одно несовместимо с другим, но не существует без него.
Сегодня виртуальная жизнь, имеющая свои сенсорные механизмы и даже самостоятельно размножающаяся, не кажется фантастикой. «Не вся жизнь ограничивается органической стратой: скорее организм есть то, что жизнь ставит перед собой, чтобы обозначить свою границу, и внеорганичная жизнь более интенсивна и более могуча» (Ж. Делёз и Ф.Гваттари, «Тысяча плато»).
Чтобы показать, что даосы имели ясное понимание природы предмирной центрированности, сошлюсь на даосский текст 12 в., посвященный Дао и его «действиям» (букв. «законам», фа по аналогии с буддийскими дхармами). Дао, говорится в нем – это «подлинность одухотворенной сообщительности, а его действия – сокровенная тонкость превращений. Дао действиями восполняет бытие людей, а люди через действия соединяются с Дао. Оттого превращения неисчерпаемы. Единое сердце пронизывает всю тьму действий, и все действия свершаются в едином сердце». Это единое сердце для автора текста и есть наше подлинное «я». Последнее есть скрытый двигатель нашей жизни. Отсюда даосская поговорка: «моя судьба – от меня, а не от Неба». В цитированном тексте даже подчеркивается ошибочность разделения людей и духов: «Все люди относится к своим богам как к богам (или, если угодно, «обожествляют своих богов»), а мудрец не считает божественным то, откуда происходят божества».
Примечательна эта неопределенность даосского всеединства, которое есть чистое превращение, абсолютная со-бытийность всего, никогда не равная себе, неотделимая от явленности мира и все же отсутствующая в нем. В даосской литературе оно именуется и «единым сердцем», и «единой энергией», и «единым телом», и просто «подлинным единством». Это единство охватывает весь мир, отчего даосский мудрец «держит мир на ладони». И оно равнозначно исчезающей точке мирового центра. То и другое есть «подлинная пустота» – всему открытая и все укрывающая.
Мы возвращаемся к изначальному парадоксу «темного мудреца» Лао: подлинная жизнь удостоверяется смертностью видимой жизни, лучшее доказательство бессмертия – его отсутствие в мире. Даосский мудрец бессмертен потому, что не знает себя в себе. Истина вообще-то хорошо известная в современном мире. «Безумие – естественное бессмертие», – заметил молодой Пастернак. Только безумец ничего не теряет в своей жизни. Не может не быть как раз того, чего не может быть. И имя друга Лао-цзы напоминает детям мира о том, что они потеряли: бессмертие. На памяти этой утраты и стоит общество со всеми его традициями и символами, коллективными упованиями и неврозами.
В потоке виртуальной жизни, в механическом воспроизведении симулякров всего и вся независимо от желаний и чувств реального человека, есть что-то жуткое, апокалиптическое. Способно ли человечество принять этот последний и самый страшный вызов уже не просто земной, но метафизической технократии? Даосы, похоже, сумели решить эту задачу для себя, выработав свою общественную форму бессмертия в виде школы духовной практики. По-китайски она именуется Врата Дао: ворота в то, что потеряно в мирской жизни. Основоположник школы олицетворял момент центрированности, из которого выходит мир, и наделялся виртуальным, фантомным существованием, способностью возвращаться в мир с каждым новым поколением его последователей. Встреча с основателем школы – главное событие в духовном опыте каждого ученика, ведь отец-основатель воплощает родовой момент бытия – тот, который пред-оставляет всему живому свободу быть. Знакомый нам даос Ли Даочунь называл центрированность моментом «духовного преображения» и свободы (цзы ю), «вечно древним и вечно настоящим», вне причин и следствий, дарующим «великую радость и великую самодостаточность». Трудно в это поверить, глядя на вихри виртуальных симуляций, требующих как раз неверия. Но попытаться, наверное, стоит. Это тот самый случай, когда терять больше нечего.
Владимир Малявин