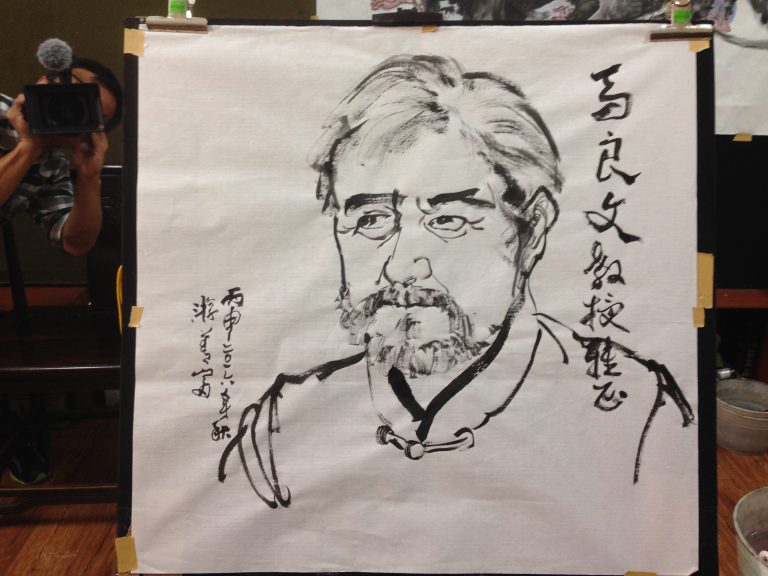«Поднебесная» или «Азия»
Владимир Малявин
Об утопических установках современной политики в Дальневосточном регионе
Сокращенный вариант статьи, полностью опубликованной в журнале «Проблемы Дальнего Востока», 2021, № 1.
Политика и утопия
Говоря об утопических основаниях политики в странах Дальнего Востока, нужно помнить о существенных отличиях того, что принято называть утопией на Западе, от сходных явлений на Востоке. Западная утопия, особенно в эпоху Модерна, основана на постулатах формальной рациональности. Ее главный принцип – параллелизм мышления и бытия, обеспечивающий логическую стройность суждения. Как следствие, рационализм Модерна раскалывает целостность мира на оппозиции духа и материи, сознания и тела, субъекта и так называемой объективной действительности, буквального и переносного смыслов и т.д. Соответственно, утопия Модерна является формальной, вынесенной вовне и сводимой к абстрактным идеям, по сути, чисто идеологической конструкцией. Ее содержание исчерпывается самоочевидными истинами рассудка, что и сообщает ей известную привлекательность. «Уберите небо, оставьте только «новую землю», и вы постигните секрет и формулу утопических систем», – замечает французский философ Э. Чоран. Как все оппозиции в рамках европейского рационализма, утопия и действительность находятся здесь в неустойчивых, внутренне противоречивых отношениях: с одной стороны, утопия разумна и в этом смысле действительна, но, с другой стороны, она остается отделенной от актуального положения вещей и недостижимой. Поэтому в общественном сознании она играет в основном роль назидательную и эстетическую.
В мировоззрении Дальнего Востока, неизменно руководствующемся цельностью мира, утопическое начало укоренено в непосредственном переживании жизни. Его основанием служит интуиция динамизма жизни, неисчерпаемого разнообразия жизненных метаморфоз, и он опирается как раз на «небесное», т.е. духовное, внутреннее, символическое измерение опыта. В потоке превращений имеется, конечно, внутренняя преемственность, но она предстает не данностью, а, скорее, заданностью опыта и знания. В свете философемы превращения все в мире в равной мере присутствует и отсутствует, реально и иллюзорно. Следовательно, все есть подобие, мнимость, и притом все существует, как полярные величины, в свободной совместности: разные жизненные миры продолжаются друг в друге, но каждый момент превращения исключителен и несравненен. Всеобщий Путь, или Дао, есть «чудесная», «сокровенная» связь вещей в необозримом мареве жизненных перемен. Речь идет о неизмеримой, одновременно предельно малой и предельно большой, дистанции. В таком случае мудрость есть не что иное, как интуитивное знание универсума вне пространственно-временной параметров существования.
Неспособность разделить чувственное восприятие и рефлексию не позволяет свести заданность всеединства к данности опыта и знания. В перспективе этой глубины все происходящее в мире существует в совместности, причастно всеобщей событийности мира. Здесь все присутствует во всем, будучи опосредованным непрозрачной средой, все пребывает в складке бытия и потому находится в полной безопасности. Мир как событийность всего есть момент совместного превращения, непрестанного перехода в свое инобытие, творческая мощь жизни.
По китайским понятиям, мудрый, проницающий духовным ведением мир, не может иметь о нем предметного знания. В среде-средоточии со-бытийности невозможно видеть что-либо или кого-либо лицом к лицу. В ней царит церемонная обходительность. В ней все видится как будто из бесконечно удаленной точки и одновременно в упор, когда взору доступны только детали и нюансы, в ней непостижимым образом преломляются друг в друга макромир и микромир, небесные эмпиреи и земная эмпирия. Именно так выстраивается пространство в китайской живописи или в ландшафтной архитектуре, а равным образом пространство тела в китайской медицине, которое представляет собой, с одной стороны, цельность сферы, а с другой – рассеянное множество соматических точек, непосредственно связывающих тело с природным миром.
Нетрудно видеть, что описанное миросозерцание имеет прямое отношение к утопическому началу, если понимать под утопией обращенность мысли к инаковости всего сущего и самого существования. Правда, в данном случае инаковость присутствует внутри жизненной целостности, т.е. имманентна существованию и даже составляет сущность коммуникации или, лучше сказать, метакоммуникации, лишенной предметного содержания. Речь идет о чистой сообщительности как пределе всех сообщений.
Подобный взгляд на истоки утопии известен в современной мысли, освободившейся от догмата самотождественности вещей. Французский исследователь Луи Марен, отмечая, что в слове утопия «отсутствие места» (u-topiс) смешивается с «благим местом» (eu-topiс), называет утопический дискурс «исторически пустым местом разрешения противоречий»; местом, по сути, «нейтральным», не совпадающим с обеими сторонами оппозиции. В этом качестве, отмечает Марен, утопическое пространство представляет собой «схему воображения», «пространственную игру», плерому мест в рамках всеобъемлющей целостности, чем, собственно, и является мир.
Обратим внимание на неразличение китайским мудрецом чувственного восприятия и умственно-духовной интуиции. Для него то и другое в соответствии с законом совместности отсутствующего сходятся именно по своему пределу: вершина эффективности органов чувств оказывается неотличимой от высшей ясности духа. Этот соматический уклон духовного идеала – самая примечательная особенность китайского миросознания. Ее жизненность и действенность проистекают из телесного опыта. Именно тело является прообразом многослойного, но внутренне проницаемого и потому «пустотного» пространства, которое делает возможным «игру» утопического сознания. Недаром в китайской практике медитации тело уподобляли «пустотному вместилищу», «жемчужине с девятью (читай: бесчисленным множеством. – Авт.) изгибами» и т.п. Впрочем, и в европейской философии хорошо известно, что отсутствие является главным свойством живой телесности.
Соотнесенность с инобытием как главная черта утопического сознания ярко сформулирована еще одним великим апологетом утопии Эрнстом Блохом, заметившим: «Неведомое вокруг нас есть глубинная основа для явления мира, и именно по этой причине вспышка будущего знания, безошибочно ударяет в нашу тьму…». Под тьмой Блох понимал актуальность существования, недоступную объективации. Поистине, утопия утверждает, как говорили в Китае, «чудесное» совпадение предельно далекого, небесного и предельно близкого, земного.
На основании сказанного выделим основные черты утопического сознания в Китае и его возможное значение для политики.
- В мире всеобщих превращений все может быть всем, все есть только превращенный образ: далекое предстает близким, низкое – высоким, внутреннее – внешнем и т.д. В конечном счете все есть подобие отсутствующего и неисповедимого.
- В отличие от западного утопизма, конструирующего внешний объект, китайская утопия принадлежит имманентности жизни. Власть и стихия быта сообщаются по уже известному нам принципу всеобщего само-отличия: они непрозрачны друг для друга и смыкаются в своем пределе, в своем отсутствии.
- Утопия обыденности в Китае имеет и временное измерение: она указывает на порог всякого явления, мгновение перехода от первозданной цельности к единичным жизненным моментам. Безмерная мощь этой «цепной реакции хаоса» предопределяет неодолимую силу власти, из которой исходит политика в Китае.
- Предоставление вещей самим себе не означает допущение хаоса или даже поддержание естественного порядка мира. Речь идет о творческом восполнении каждого существования благодаря усилию самооставления властвующего; усилию, по сути, глубоко этическому.
Концепция «новой Поднебесной»
Термин «Поднебесная» (тянься, букв. «Под-Небом») относится к ряду неофициальных самоназваний Китая, имеющих утопическую окраску, таких как Хуася («Процветающее Ся»), Шэньчжоу («Божественный континент») и др. В прошлом веке в условиях ослабления Китая и его быстрой модернизации понятие Поднебесной в китайской политике было вытеснено идеей национального государства. Однако с превращением Китая в экономическую сверхдержаву и ростом его глобальных амбиций идеал Поднебесного мира вновь вышел на передний план политической стратегии Китая.
Главное свойство Поднебесной, зафиксированное уже в древних источниках, состоит в том, что она является общим достоянием человечества. Всеобщность Поднебесной имеет ярко выраженную моральную значимость, она предъявляет задание согласования всех личных и коллективных интересов. В китайской мысли мир есть именно среда и условие с-мирения и при-мирения всех. Этот этический императив обосновывался понятием «таковости» (цзы жань), т.е. того, что «таково само по себе» в каждом существовании. Таковость есть нечто единственное в своем роде, некая сингулярность, но как раз поэтому она предполагает существование всеобщего, хотя и отсутствующего в любой предметной данности принципа всех «таковостей».
Способ реализации идеала Поднебесной обозначен в сентенции из главного даосского канона «Дао-Дэ цзин»: «Смотреть на Поднебесную исходя из Поднебесной». Очевидно, что тот, кто хочет созерцать мир таким образом, ничего не увидит: мир в его целостности не может быть объектом созерцания и остается слепым пятном всякого видения. Единственным способом указать на его присутствие является «пространственная игра» утопии: взаимное замещение видимого и невидимого, внутреннего и внешнего, близкого и далекого, столь ярко представленное в китайском искусстве от живописи и скульптуры до театра и резьбы по дереву. Реальность здесь предстает дымкой, туманом, маревом необозримого пространства, «мраком актуальности», в которой выявляются, как единичные моменты времени и точки пространства, отдельные жизненные миры вселенской совместности. Другими словами, всевместительная совместность бытия или со-бытийность мира уступает себя, преломляется в конкретность существования, явленность всех явлений.
Идеалу Поднебесного мира присущи внутренние противоречия, которые остались незамеченными его поборниками в Китае. Политически концепция «новой Поднебесной» выражает стремление выработать китайскую формулу глобального порядка и в то же время создать максимально инклюзивную концепцию мирового порядка, которая вытеснит западную концепцию глобализации, усугубляющую конфликты и неравенство в мире. Как заявляет один китайский автор «мир Хуася станет единством цивилизации и жизненной общности». Локальный и национально-специфический аспект концепции Поднебесной занимает более заметное место в ее версии, предложенной китайским ученым Чэнь Юнем. Последний называет Поднебесную «сердцевинной категорией китайства» и неизменным горизонтом китайской истории. Эта категория, по Чэнь Юню, воплощает всеобщность и одновременно делает возможным «обретение каждым своей исконной природы». Поэтому идеал Поднебесной неотделим от определенного «места», локальных условий его осуществления.
Несмотря на бравурные оценки мирового потенциала китайской цивилизации и государственности вопрос о природе их единства и соотношения в ней локального и глобального начал в современной концепции Поднебесной остается невыясненным. Это обусловило ее ограниченность и уязвимость для критики с позиций современной критической социологии. В самом Китае высказываются мнения о том, что концепция «новой Поднебесной» предполагает преодоление как имперской традиции, так и нации-государства в каком-то новом качестве общественно-политического бытия.
«Азия как метод»
Концепция «новой Поднебесной» вследствие ее абстрактного и надвременного характера, а также ее очевидной связи с глобальными устремлениями современного Китая не могла не навлечь на себя критические выпады. Наиболее концентрированным выражением этой критики стала теория, носящая непривычное для уха европейца название «Азия как метод». Первоначально ее выдвинул в 1960 г. японский литературовед Ёсими Такэути (1910-1977). В центре внимания Такэути находилась проблема отношений коллективного Запада и стран дальневосточного региона. Стремление Японии подражать западным державам с их империалистической и колониальной политикой он считал самоубийственным и пытался сформулировать альтернативную, специфически «азиатскую» версию модернизации. Будучи китаеведом, он нашел пример для подражания в позиции Китая и особенно влиятельнейшего китайского писателя 20-30-х гг. прошлого века Лу Синя. Китай стал для него образцом вследствие нежелания принимать навязанные Западом правила игры, а Лу Синь – благодаря его твердой приверженности сопротивлению западной гегемонии и всем формам гнета в своей стране.
Такэути полагал, что протест против угнетения открывает путь к равенству и единству человечества, и в этом противостоянии с Западом азиатские страны смогут вернуть жизненность тем самым универсальным человеческим ценностям, которые проповедовал сам Запад и которые он предал. Правда, он не был уверен, что Япония, да и вся Азия, готовы совершить этот переворот. Свое эссе «Азия как метод» он заканчивает словами: «Восток должен изменить Запад для того, чтобы возвысить те универсальные ценности, которые Запад породил… Когда эта перемена свершится, мы должны будем иметь собственные культурные ценности. Но, возможно, эти ценности уже не существуют в осязаемом виде. Я подозреваю, что они, скорее, возможны как метод, другими словами, как процесс самосозидания субъекта. Я назвал это «Азия как метод», но невозможно сказать со всей определенностью, что это значит».
В чем причина нерешительности Такэути в определении сущности «азиатства»? Начнем с того, что предложенный им «процесс самосозидания субъекта» резко отличается от классических западных методик. Его исходный пункт – не самосознание, а выражение, уже заданное индивиду общественной практикой, т.е. нечто внеположенное индивидуальному сознанию, существующее в пространстве «межчеловеческого» (кит. жэньцзянь, яп. нингэн), как в языках Дальнего Востока называется мир собственно человеческого. Таким образом, диалог для Такэути предшествует монологу, при этом всякое помышление раскалывает постулируемый им субъект. Последний не должен иметь перед собой объектов, он совершенно самодостаточен, формируется сам из себя. Его логический предел – некий абсолютный субъект, который способен принимать, вмещать любую перспективу созерцания, не теряя своей универсальности. На практике этот субъект, как предписывалось философской традицией Дальнего Востока, утверждал себя в акте «оставления» или «опустошения» себя, так что его всеобщность соответствовала отсутствию «я». Отсюда нежелание Такэути давать определения своему «методу» из опасения, что любое самоутверждение приведет к диктатуре и войнам. Азия Такэути не могла быть физически осязаемой, а ее «субъект» в своей приверженности к самоотрицанию должен быть готов стать другим.
Как видим, движение мысли в «созидании субъекта» по Такэути противоположно развертыванию рефлексии в логическом порядке дискурса. Оно носит характер возвращения к истоку мысли, что является, вообще говоря, традиционным мотивом в учениях Дальнего Востока. В субъекте Такэути, как в бытии рода, ключевую роль играют разрывы и пустоты, исключающие сознательное подражание.
Вся тонкость тезиса Такэути (тоже хорошо известная в традиции) состоит в том, что действительное бытие субъекта состоит в его самоотрицании. В Японии проблема такой до- или сверхиндивидуальной субъективности в силу ориентации японской культуры на аналитическое мышление и предметность знания нашла свое решение – кричаще противоречивое – в культе личной воли и безусловного в своей самоотрицательности действия, самым известным примером которого является харакири.
Ближе к концу столетия взгляды Такэути встретили живой отклик (правда, без их специфически японской начинки утверждения себя в самоотрицании) в ряде стран Дальнего Востока, находящихся в поиске своей субъектности. Наиболее привлекательной здесь оказалась идея равенства всех субъектов исторического процесса, которая побуждала к взаимному признанию и познанию всех общностей и культур. Теория «Азии как метода» сделала возможным выход на историческую сцену локальных культур и маргинальных социальных групп. Лозунгом нового течения стала борьба с колониализмом и имперской гегемонией, а Азия, взятая как «метод», представала множеством локальных контекстов, которые могли соотноситься друг с другом самыми разными способами. Не удивительно, что наибольшую популярность новый подход приобрел даже не в Японии, слишком привязанной к ее имперскому наследию, а в малых странах и периферийных территориях, где возник запрос на демократию: Южной Корее, Тайване, Гонконге. Поскольку «азиатские тигры» не имели ни имперской традиции, ни собственной концепции политической субъектности, «метод Азии» был воспринят ими преимущественно в территориальном измерении, которое со временем все больше приобретало сетевой характер. Но последователей Такэути в этих странах привлекала сама идея прозрачного пространства Азии, дававшего свободу коммуникации.
Большой резонанс вызвала книга о «методе Азии» тайваньского культуролога Чэнь Гуансина. Последний видит задачу этого метода в том, чтобы сделать не только объектом, но и субъектом политики локальный фактор. Сам Чэнь Гуансин придает понятию локальности максимально широкий смысл, относя его «и к трансграничным, и к региональным и даже к межконтинентальным отношениям». Метод самоопределения Азии для Чэнь Гуансиня уже не имеет отношения к «созиданию субъекта». Он означает проникновение в опыт других локальных общностей с целью нового понимания своего контекста. Локальность перестает быть территорией и превращается в способ вовлечения разных обществ и социальных слоев в формы мышления и деятельности в децентрированном пространстве.
Программа Чэнь Гуансина была с большим энтузиазмом воспринята в Гонконге – территории с обостренным чувством как своей локальности, так и своей суверенности. Исследования гонконгских ученых и публицистов в русле «метода Азии» касаются менталитета и общественных движений разного рода меньшинств, а также протестов против репрессий пропекинской администрации.
Движение за «метод Азии» в его современном виде вызывает немало вопросов. Как могут вдохновленные им исследования изменить Запад, если они копируют формы социальной и культурной критики, которые находятся на пике моды на том же Западе? Что вообще составляет методологию в этом методе, и не было бы правильнее говорить здесь просто о подходе к общественной практике или угле зрения на нее? Почему именно азиатские исследования должны прояснить природу господства и угнетения?
Возвращение утопии
Обе рассмотренные мировоззренческие позиции отличаются зыбкостью и двусмысленностью. Идеал гармонического единства человечества в Поднебесной лишен конкретного исторического содержания и подходит, кажется, для любого общества и политического режима. Впрочем, такой знаток Азии, как Николай Рерих, призывал понимать и ценить в ней именно «историю помимо историков». Дело в том, что история в Азии сводится к моменту возобновления начала всего сущего, повторению без отождествления, которое обнажает природу бытия как все предваряющей и преображающей сингулярности. Автор этих строк назвал такое понимание истории археоисторией. В Поднебесной, таким образом, все свершается прежде, чем обретет зримый образ; история заканчивается до того, как она начинается.
«Метод Азии» тоже принадлежит этому утопическому типу мировоззрения с тем отличием от концепции Поднебесной, что он переводит общее в конкретное, учит рассматривать вещи в микромасштабе, но по-своему тоже открывает мир вездесущей инаковости, ускользающей от предметного знания. В доступной каждому самоочевидности существования он учит открывать… нечто всем неведомое!
И концепция «новой Поднебесной», и концепция «новой Азии» выстроены на традиционной для дальневосточной цивилизации логике «недвойственности» или, если угодно, двуединства оппозиций, согласно которой одно предстает как два, а двоичность сходится в одно. Неспособность стран Дальнего Востока при всей их цивилизационной близости формализировать свою общность и создать некое подобие Европейского Союза объясняется как раз отсутствием в восточном мышлении понятия самотождественной сущности, которую заменяет идея превращения или самоинаковости. Единое здесь соотносится не со счислимой единицей, а с несравненной, всегда соскальзывающей в инаковость единичностью. Неизбежным следствием такого раздвоения является иерархия «старшего» (он же центр или наиболее модернизированное и могущественное государство) и «младшего» (периферия, отсталое и слабое государство).
Итак, точка взаимных превращений вещей, она же место утопии обладает неисчерпаемым потенциалом трансформаций, На фоне такой, поистине, достойной дракона и притом этически мотивированной переменчивости японская модель азиатского универсализма выглядит слишком жесткой, срывающейся в насилие и слишком привязанной к национально специфическим формам культуры.
Само-оставление, как уже говорилось, имеет вертикальное измерение, создает иерархию статусов. Правда, иерархию, имеющую моральное основание и не порождающую конфликты в обществе. Отметим также особую двухслойность этой политической модели, предполагающей сопряжение трансцендентной власти и имманентной повседневности, которые сходятся по своему пределу, в неопределимой, ускользающей от самой себя точке взаимных превращений. Нетрудно представить, что утверждаемая концепцией Поднебесной лестница личностных совершенств в какой-то точке сходится с «методом Азии» как способом признания прав и свобод социальных низов. Но это признание опять-таки исходит из «слепого пятна» мировой событийности и требует от участников общественного консенсуса все той же моральной аскезы.
В «методе Поднебесной» и «методе Азии» мы имеем дело, по существу, с двумя модусами познания: первый учит видеть неведомое в известном, а второй, наоборот, – открывать знакомое в чужом. Одно подразумевает другое и даже неотделимо от него. Более того, чуждое и таинственное в опыте является самым капитализируемым материалом как в бизнесе, так и в культурной политике.
Примирение глобального и локального, истеблишмента и маргинальности в обществе требует переоценить понятия традиции и модернизации, центра и периферии. В разных частях Большого Китая одни и те же общественные явления оцениваются по-разному, но, скажем сразу, равно односторонне. Так, на Тайване и в Гонконге принято противопоставлять эти территории как наиболее «модернизированные» материковому Китаю – наследнику авторитарных традиций «Поднебесной». Между тем общество в КНР и тем более его политическая элита преданы делу модернизации страны и добились на этом пути впечатляющих успехов. Напротив. в том же Гонконге или Тайване и в еще большей степени в китайской диаспоре сохраняются и даже культивируются многие традиционные институты и черты китайского быта. Отчасти консерватизм китайской диаспоры был способом ее самосохранения, но со временем он все больше служил производству новых, гибридных и глобальных, форм китайской культуры, представляющих Китай на мировом рынке цивилизационных брендов. Пример Гонконга, породившего поп-культуру криминального мира и фильмов о «кунгфу» с их героями из числа маргинальных «людей рек и озер», показывает, что лиминальность может служить утверждению прав и достоинства личности. В континентальном же Китае лиминальность и экзотика существуют на правах особых туристических зон, местами смахивающие на Диснейленды. А застроенные на американский манер небоскребами современные китайские мегаполисы предъявляют образ той самой пустоты и аморфности, которые составляют сущность китайской традиции и определили ее исторические формы. Китай потому и принимает столь легко обличье глобальной современности, что таким образом удостоверяются и выявляются базовые принципы его культуры.
Таким образом, традиция и модернизация не исключают друг друга. Скорее, модернизация превращает традицию в культурный капитал и именно в ней находит оправдание себе. Соответственно, исход китайцев из Китая, если говорить о системе китайской идентичности, на самом деле подтверждает основы их традиционного уклада. Китай как совместность «Поднебесной» и «Азии» призван быть тем «черным ящиком» взаимного превращения социокультурных миров, которое маркирует место утопии. В этой перспективе выявляется пространство действительно всеобъемлющей и эффективной политики.
………………………………………………
Примечания:
[1] Cioran. Histoire et utopie. Paris: Gallimard, 1990. P.105
[1] Классическое определение реальности в китайской традиции гласит: «такое большое, что не имеет ничего вне себя, и такое малое, что не имеет ничего внутри себя». Эти два полюса оси бытия неотличимы друг от друга.
[1] Louis,Marin. Utopics: Spatial Play. New Jersey: Humanities, 1984. Preface, XIII.
[1] М. Мерло-Понти называл тело «тайником жизни», «сокрытым когито». М. Мерло-Понти. Феноменология восприятия. СПб: Ювента, 1999. С. 512. Подробный анализ бытия тела как отсутствия см.: DrewLeder,TheAbsentBody.Chicago: University of Chicago Press, 1990.
[1] Ernst, Bloch. The Spirit of Utopia. Stanford: Stanford University Press, 2000. P. 229.
[1] См. Владимир Малявин. Китайский этос, или Дар покоя. Иваново: Роща, 2016.
[1] Яо Чжунцю, Хуася чжили цзысюй ши (История порядка управления в Хуася). Т. 1. Хайкоу: Хайнань, 2012. С. 99.
[1] Сюй Цзилинь. Синь тянься чжуи юй чжунго де нэйвай цзысюй (Идея новой Поднебесной и внутренний и внешний порядок Китая). – Чжиши фэньцзы луньцун. Вып. 13. 2015. С. 7-8.
[1] What is Modernity? Writings of Takeuchi Yoshimi. Tr.by R.F. Calichman. New York: Columbia University Press, 2004. P. 165.
[1] Kuan-Hsin, Chen. Asia as Method: Toward Deimperialization. Raleigh, N.C.: Duke University Press, 2010. P.255.
[1] Hong Kong Culture and Society in the New Millennium. Hong Kong as Method. Ed. by Yiu-Wai Chu. Singapore: Springer, 2017.