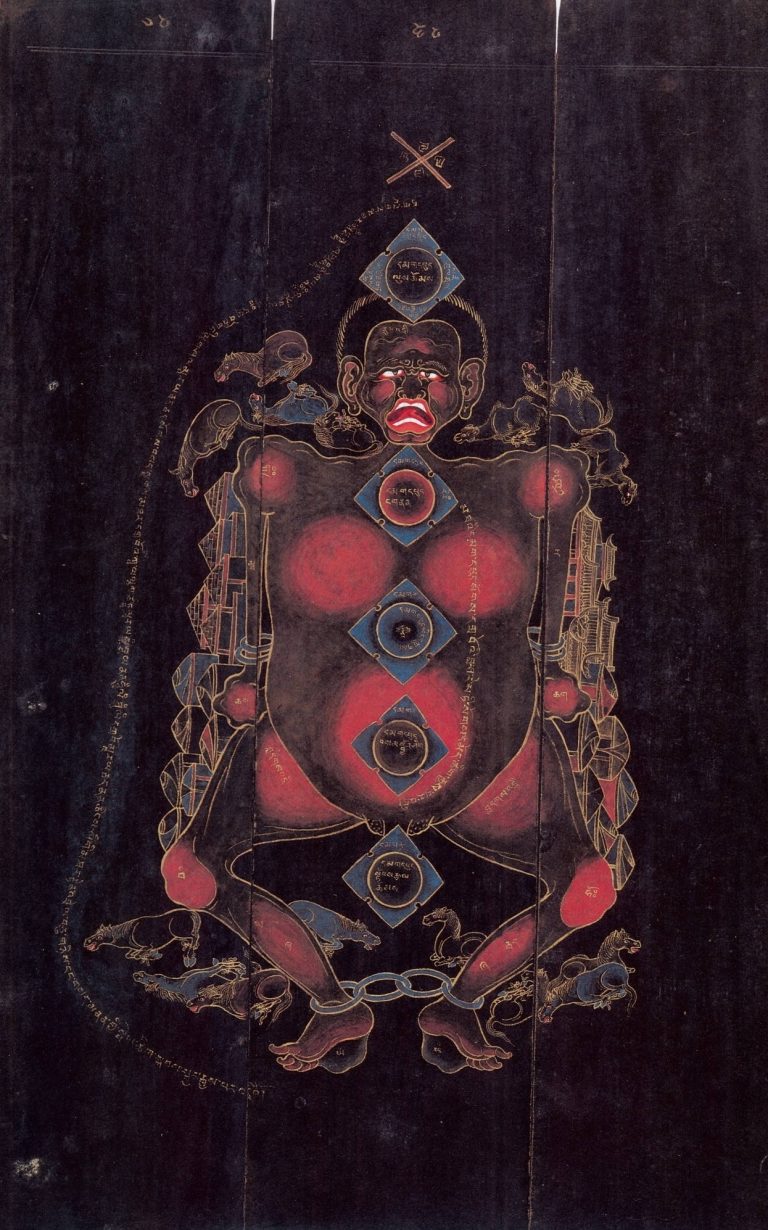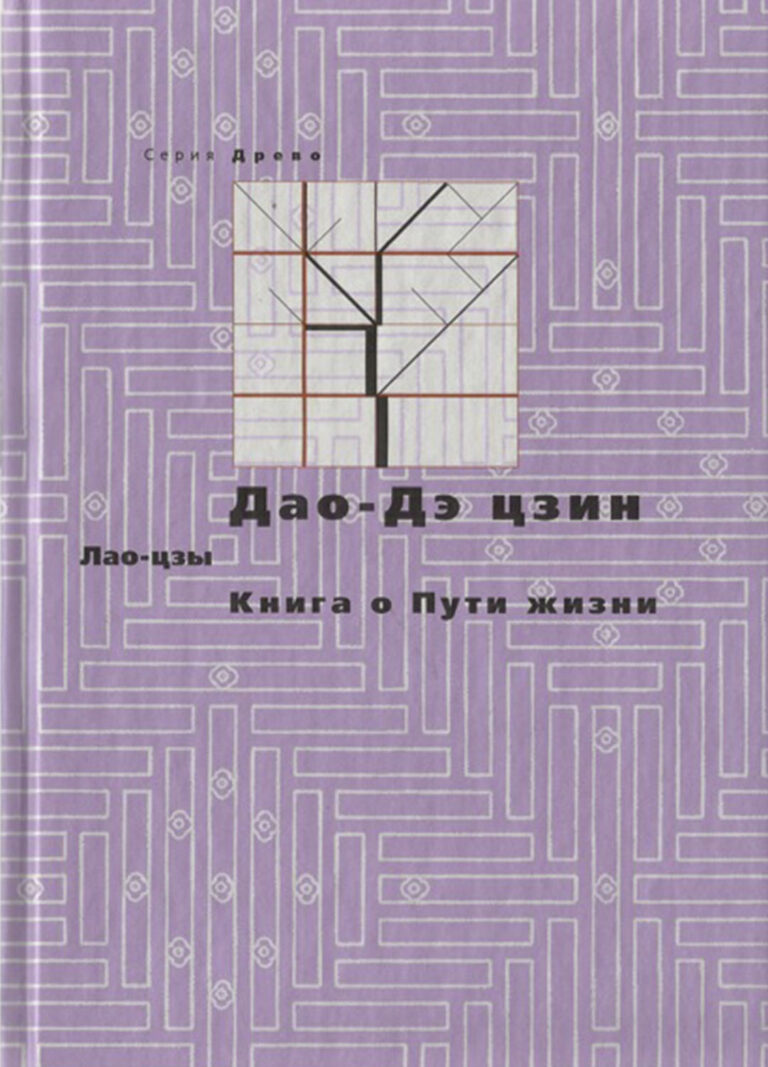Под знаком «ветра и потока» . Образ жизни художника в Китае III—VI веков
Е. А. ТОРЧИНОВ

Нечасто появляются у нас книги о Китае, написанные так увлекательно, как рецензируемая книга, и немногие из профессиональных китаистов так виртуозно владеют пером, как владеет им Л. Е. Бежин. Легкий и пластичный слог Л. Е. Бежина отмечен печатью незаурядного литературного мастерства. Как писатель, непринужденно облекающий ученые изыскания в изысканно художественную форму, Л. Е. Бежин — явление в своем роде уникальное в китаеведении. Нераздельное единство научного знания и «поэзии смысла» не только возможно, но и вполне естественно, ведь, в конце концов, мысли без слов не бывает; хороша та мысль, которая хорошо сказана. Вопрос в том, чтобы понять, почему это сказано. Стиль Л. Е. Бежина может нравиться или не нравиться, но научная истина — вне личных вкусов и эмоций. Нас будет интересовать поэтому не столько то, как говорит Л. Е. Бежин, сколько то, н а ч е м он стоит.
Как и первая монография Л. Е. Бежина 8, кстати сказать, незаслуженно обойденная молчанием рецензентами, данная книга посвящена проблемам культуры Китая в эпоху раннего средневековья или, по традиционной хронологии, в эпоху Шести династий (III—VI вв.). Но если в первой работе эти проблемы рассматривались главным образом через призму жизни и творчества поэта Се Линъюня и его окружения, то на сей раз Л. Е. Бежин попытался дать целостное представление о том, что в подзаголовке книги названо «образом жизни художника» в тогдашнем Китае, — замысел смелый и захватывающий, ибо именно на период Шести династий приходится формирование эстетического канона китайской традиции. Автор вводит в отечественную литературу немало новых материалов (отметим в особенности сведения о нравах той эпохи, интересные заметки о Гу Кайчжи), но в целом он не увлечен поиском свежих фактов и охотно опирается на исследования и переводы, опубликованные ранее. Его главная цель, очевидно, по-новому интерпретировать известное или по крайней мере собрать воедино важнейшие сведения о мыслях, словах и чувствах ученой элиты той далекой эпохи. Стержень ее духовной жизни Л. Е. Бежин находит в понятии «ветра и потока» (фэн лю). Он подчеркивает, что речь идет не об отвлеченной идее, а о некоем неформальном жизненном кредо, расплывчатом и неопределенном «образе жизни», которые, судя по содержанию книги, давали о себе знать в самых разных, в том числе прямо противоположных, вещах — в увлечении спекулятивной философией и отвержении всякого «мудрствования», религиозной аскезе и богемной распущенности, культе уединения и пафосе публичности, любви ко всему эксцентричному и апологии обыденной жизни. «Образ жизни», как и следовало ожидать, оказывается пестрой, подчас беспорядочно уложенной мозаикой, а «ветер и поток»— тайной мироздания a la Mallarme: неуловимо-зыбкой средой взаимоотражений, текучим и всепроницающим средоточием бытия, образом пустоты. «Жизнь вообще» — та самая «жизнь, как она есть», о которой мы знаем не больше, чем герои книги Л. Е. Бежина, предстает универсальным экзистенциальным полем, общим для каждого в той мере, в какой неизвестное присутствует в известном в каждой частице жизни.
Имеет ли воссоздаваемый Л. Е. Бежиным жизненный идеал реальный прототип? Вопрос остается без ответа, ибо мы, в сущности, имеем дело с эстетической редакцией проблемы «жизни», объявляющей все образы реальности равно реальными и не имеющей другого критерия истинности, кроме внутреннего опыта единства изображаемого. Автор находит весьма точное определение влекущей его загадочной реальности, когда называет важнейшей чертой миросознания «ветра и потока» восприятие жизни как искусства, как «эстетической игры» (с. 16). В человеческой жизни нет ничего более двусмысленного и неопределенного, чем «игра в жизнь», которая являет одновременно символическое зеркало реального мира и последовательное самоотчуждение. Как способ испытания культурных норм, игра служит самопознанию культуры, а как способ очищения сознания от груза отжившего — творческому росту культуры, тому самому «каждодневному обновлению», которое Л. Е. Бежин выделяет в качестве главного принципа «ветра и потока». Так игра оказывается в высшей степени полезным и серьезным делом (здесь невольно вспоминается даоская тема «полезности бесполезного»). В древнем и средневековом мире так было повсюду. В сущности, только буржуазная цивилизация Запада вывела игровое начало из круга полезных вещей.
Подвижность границы между игрой и серьезным поведением и универсальный характер их взаимопроникновения лишают понятие «жизнь как игра» предметности. Мы никогда не сможем установить, что есть «жизнь», а что — «игра» просто потому, что ни то, ни другое не является сущностью в логическом смысле. Тезисом «жизнь=искусство» нельзя скрепить мозаику форм жизни. Между тем всякая культура имеет в своей основе тот или иной способ соединения заданного и установленного, факта и артефакта и выдает искусственное за естественное. Вот здесь и намечается истинная задача научного исследования как разоблачения мифа культуры. Эта задача должна решаться средствами исторической критики, т. е. путем указания на относительный и условный характер понятий искусственного и природного в данном типе культуры. Речь идет не о пресловутой демистификации культурных феноменов, нередко сводящейся к механическому наложению одного аспекта реальности на другой и к вульгарному социо-логизаторству вроде утверждения некоторых китайских авторов о том, что образ жизни аристократов Шести династий представлял собой «апофеоз гнилостной и паразитической сущности класса помещиков и класса рабовладельцев» 8. Выявление объективных предпосылок тех или иных форм культурного мифа может и должно сопровождаться выявлением его подлинной экзистенциальной глубины.
Миф культуры (или, можно сказать, ее первичная метафора) во всей полноте его двусмысленности не становится у Л. Е. Бежина предметом критической рефлексии. Не удивительно поэтому, что Л. Е. Бежин практически не раскрывает исторического содержания идеала «ветра и потока». Он ничего не говорит о внутренних противоречиях общественной позиции ученой элиты раннеимператорского Китая, хотя попытки определить эти противоречия уже предпринимались в литературе. В книге немало необоснованных умолчаний и смещений. Так, в ней почти ничего не сказано о конфуцианском факторе в жизни и мышлении поклонников «ветра и потока», хотя именно культуртрегерское конфуцианство с особенной настойчивостью проповедовало тождество жизни и искусства. Столь же некорректно помещать в компанию эстетствующих аристократов-северян их ярого недруга Гэ Хуна, да и других даоских подвижников. Неоднократно цитируя in extenso притчи из наследия древнего даосизма, как если бы это было аутентичным свидетельством культуры раннесредневекового Китая, автор предоставляет читателю свободу гадать об историческом своеобразии того и другого. То же касается и смелых обращений к литературе позднейших эпох — танской, сунской и даже позднего средневековья. Последнее кажется тем более странным, что понятие «ветра и потока» к тому времени утратило возвышенный смысл и приобрело явственную окраску скабрезного анекдота (отчего название книги звучит несколько комично для современных китайцев). Произведения «высокой словесности» фигурируют в книге в одном ряду с новеллами, а ведь это как раз тот самый случай, когда жанровые различия отображают различия в культурных истоках и функциях. И совсем уж неожиданно встречать в книге, написанной большим знатоком китайской культуры, элементарные фактические ошибки и неточности. В обычае ставить в могиле фигуры воинов, оберегавших покойника от злых духов, автору слышатся «отголоски боев и сражений» того времени (с. 11). Салоны аристократии Южных династий объявляются родовым гнездом чань-буддизма (с. 17). Коренной южанин Гэ Хун причислен к северянам. Попадаются и этнографические ляпсусы вроде ««подштанников», которые якобы носили китайцы того времени, или курьезной тавтологии «табгачи из рода Тоба».

Упомянем попутно о переводах китайской поэзии, приводимых автором отнюдь не только в целях иллюстрации. Подборки стихотворений, помещенные в конце глав, и стихи, время от времени разрезающие повествование, образуют глубинный ритм книги, ее своеобразное лирическое дыхание. Изящно и непринужденно сделанные, они, несомненно, украшают работу. И все же они вновь зовут к размышлениям о непреходящей проблеме перевода поэзии Китая. Л. Е. Бежин, заботясь, вероятно, не только о восприятии русского читателя, но и о верности оригиналу, дает рифмованные переводы, строго соблюдая заданный размер. Но нельзя забывать и о том, что рифма и размер — только два из множества компонентов богатейшего музыкального рисунка китайского стиха, в котором не терялось ни одно слово. Не пытаясь дать готовые рецепты, хотелось бы отметить, что адекватным переводом с китайского следовало бы считать такой, в котором каждое слово было бы столь же весомым, как и в оригинале. Между тем избранная автором техника перевода иногда вынуждает его жертвовать осязаемым присутствием слова и глубиной смысла в угоду отвлеченному порядку слов. Особенно неудачен перевод стихотворения Юй Синя на с. 36—37. Вместе с тем имеющиеся в книге переводы без рифмы (например, стихи Бао Чжао) ничуть не проигрывают даже в сравнении с лучшими рифмованными переводами.
Но вернемся к методологическим посылкам Л. Е. Бежина. Ссылаясь на С. С. Аверинцева, он пишет об опасностях «иллюзии всепонимания», но, по-видимому, не замечает, что этот совершенно справедливый тезис имеет, прежде всего, экзистенциальное измерение. Человек наделен способностью испытывать собственную неопределенность и сознавать себя самим собой в той мере, в какой он сознает, что он не есть и чем хочет быть. Человек никогда не равен себе и в этом смысле непрозрачен и «странен» для самого себя. Никакие действия, образы или слова сами по себе не удивительны; удивительна бесконечность в конечном бытии человека. В конце концов, как говорил Л. Витгенштейн, удивительно не то, как мир есть, а то, что мир есть. Автор же удовлетворяется «остранением» (если воспользоваться термином В. Б. Шкловского) вещей, удивляясь даже желанию китайских крестьян стать бессмертными (с. 87). Парадокс, однако, в том, что готовность удивляться всему и вся уживается в авторе со столь же постоянной готовностью все объяснить и сделать понятным. Если приверженцы «ветра и потока» пили вино, так это потому, что они «старались утопить в вине свое отчаяние, пессимизм и скорбь» (с. 133); если они воспевали сон, то потому, что сон «навевает грезы, пробуждает фантазию», а если бессонницу, то потому, что бессонница — «время мучительных и тяжелых мыслей, тоски, разочарования» (с. 144), и т. д.
Суть дела в том, что и «остранение», и объяснение являются в данном случае не более чем риторическими приемами. Читая книгу Л. Е. Бежина, мы попадаем в старомодный мир эстетизированной истории, т. е. истории, переработанной в пластически-законченные, неспособные к развитию образы. Сводя исследование к созерцанию этих образов, автор исповедует популярный в прошлом столетии психологический интуитивизм Einfuhlung’a, вживания в чужой опыт. «В целом, — пишет Л. Е. Бежин в Заключении, — «ветер и поток» представляет собой попытку построить существование на чисто психологических основах» (с. 198). «Остранение», практикуемое Л. Е. Бежиным, соответствует деформации действительности творческим воображением, но материал его воображения — знакомые каждому чувства, и он может сообщить лишь, что поклонники «ветра и потока» чувствовали то же, что и все люди: радовались, мечтали, скорбели, любили, негодовали, предавались воспоминаниям. . . что еще? Даже идеал просветленного сознания в даосизме и буддизме, имеющий явно метаэмпирическую природу, автор истолковывает в психологическом ключе. В философии Шести династий он выделяет тему апологии наличного бытия (понимаемого им психологически) и говорит о «почти физическом, чревном» понимании страдания в буддизме, приписывая буддийской доктрине прикладной характер (с. 8). В персонажах книги все, казалось бы, нам понятно, но. . . понятно ли?
Критика психологизма в понимании культуры — непосильная задача для рецензии, да и неактуальная в свете модернистского переворота в искусстве и современных данных культурной антропологии, глубинной психологии, лингвистической философии, структурного анализа. Достаточно сказать, что позиция Л. Е. Бежина — реликт романтических вариаций философии классического разума как метода проявления наличного, как «феноменологии». Между тем ключевые философемы китайской традиции — пустота, забытье, сокрытие — не принадлежат области феноменологии. Л. Е. Бежин унаследовал и романтический вкус к экзотике. В известном смысле поиск экзотического прямо противоположен задачам антропологического изучения культуры. Если пропагандист экзотики облекает привычное в необыкновенный наряд, то антрополог ищет общее основание культур в экзистенциальном эпистемологическом разрыве, пронизывающем жизнь каждого человека, и стремится открывать неведомое в обычном.
Важно отметить, что эстетизация понятия «ветер и поток» резко сужает его семантику. Напомним, что впервые оно употреблено в «Истории династии Ранняя Хань» в отношении двух полководцев, настолько популярных в народе, что о них слагали песни. Фань Е, автор «Истории династии Поздняя Хань» писал о «ветре и потоке» ученых магов (фан ши); то же говорилось о знаменитых отшельниках 10. Вместе с тем в категориях «ветра и потока» традиционно осмыслялись общественная жизнь и управление государством. Столь же широк круг значений термина «славный муж» (мин ши). Л. Е. Бежин переводит его словом «знаменитость», придавая ему известную артистическую окраску. Пожалуй, оно подходит какому-нибудь эксцентричному художнику или поэту Шести династий, но применимо ли оно к диктатору вроде Цао Цао или отшельнику (исконный и наиболее распространенный случай употребления термина «мин ши»)? Идеал «ветра и потока» — составная часть официальной, чиновничьей культуры императорского Китая, и общество «славных мужей», выступающих как бы темными двойниками правителя, нельзя считать «богемой», как склонен думать автор (с. 3). В образе «славного мужа», бегущего власти, но в действительности имеющего неоспоримую власть над людьми, воплощен архаический принцип утверждения истинного статуса вещей посредством ритуального перевертывания. Несмотря на некоторое внешнее сходство между стилем «ветра и потока» и дендизмом (культ искусственности, пафос элитизма, сведение этики к эстетике), всякие аналогии между «славным мужем» и денди могут ввести в заблуждение.
Универсальность понятия «славный муж ветра и потока» лишний раз сообщает о его внепсихологическом характере. Она напоминает о том, что жизненность концептов не в наличии у них фиксированных, словарных значений, а, наоборот, в их многозначности, указывающей на неизреченную матрицу мышления, на аутентичное Слово, значение которого — весь мир. Это Слово есть высшая форма символа, который, как таковой, ничего в сущности не обозначает. И всего менее — то или иное конкретное психологическое состояние. Ветер и Поток предстает прообразом первичной метафоры, связующей внутреннее и внешнее, земное и небесное, конечное и бесконечное, но связующей только через неустранимый разлад в самом человеке. В нем засвидетельствован космический «избыток энергии», противостоящий энтропийным тенденциям пространства и времени. Эксцентрические манеры «славных мужей», их вкус к игре и смеху знаменовали выход за пределы индивидуального сознания и утверждение своей вселенской значимости. И не удивительно, что переполнявшие их чувства были овеяны дыханием смерти (см. с. 113), ибо смерть есть метафизика чувства, пронизывающая все формы культуры.
Так идеал «ветра и потока» учит, быть может, самой благородной работе духа: становиться самим собой, преодолевая себя, и открывать смысл там, где разрушена риторика «понимания» и смысла нет.