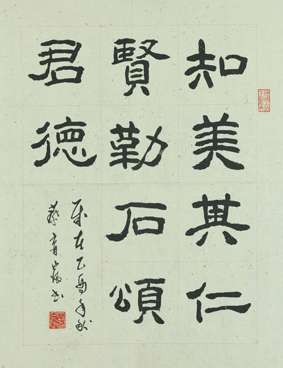По поводу «китайской антиутопии».

Владимир Малявин. Ответ московскому другу.
Дорогой друг,
Ты спрашиваешь мое мнение о планируемой в Китае системе тотального социального контроля. Идея неоригинальна, но до сих пор была достоянием фантастов, начиная с романа Замятина. Ее много и заслуженно критиковали. Но редко замечают, что она есть, собственно, пародия на всевидящего Бога. Если человек в западных религиях по природе греховен, тогда он немыслим без «антиутопии». Его ответ – покаяние. А страх перед всевидящим оком только выдает ребяческое легкомыслие и рождает лицемерие. Кроме того, в ситуации антиутопии заметна доведенная до предела тенденция капитализма просвечивать рентгеном «маркетинга» все уголки человеческой души. На сей раз – ради наживы. И мы уже недалеки от этого предела.
О том, как побороть антиутопию я писал в заметках «Уроки Матрицы», вошедших в книгу «Средоточия». Если одним словом — усвоить способность непосредственного духовного контакта (через китайское «гунфу»), который предшествует миру вещей и потому дает полную безопасность (по-восточному, «полноту покоя») и делает неуловимым для всех систем регистрации. Именно так: кто больше открыт зиянию бытия, тот больше защищен от любого «дурного глаза». (В фильме дается более привычное западному зрителю, но не противоречащее сказанному мной решение: жертвенность любви.)
Единственный вопрос достойный здесь внимания философа таков: может ли существовать принципиально неявленная, невыявляемая реальность? Очевидно, да. Любая интенция имеет свой скрытый фон. И совершенно точно мы не можем видеть «весь мир» или, как удивлялся еще Кант, самого себя. Мир всегда предстает мраком актуального момента. На игре сокрытия и явления стоит бытие тела в культуре. И как раз на этом выстроена вся восточная мысль. Запад безотчетно попытался найти выход из этой антиномии в параллелизме мыслимого и действительного. Отсюда неизбежность темы антиутопии на Западе, и страх перед ней, естественный в свете западных религий, и отвращение к телу. Ведь в рамках западного монотеизма увидеть человека как он есть — значит обнажить его порочность. Но и смотрящий сам порочен, верно? Тогда понятно, откуда берется Легенда о Великом Инквизиторе, сама по себе странная и противоречивая. И опять всплывает лицемерие как коренная черта западного человека.
Азиатская мысль не знает параллелизма идеи и материи и оперирует категорией недуальности. Это означает, что божественное («небесное») входит (постоянно возвращается) в плоскость земного быта. Правда символическую дистанцию между «оставленностью» и «данностью» вещей легко потерять, и здесь – метапроблема восточной мысли, решаемая только полным доверием к невероятной истине: оставь все, и все получишь. Но восточный человек не ищет точки опоры, чтоб перевернуть мир. Он отпускает мир, чтобы дать свершиться всем переменам в нем. Он верит, что все люди – Будды, и человек достоин себя лишь в той мере, в какой прилагает усилия открыть Будду в себе. Он способен это сделать в одно мгновение, разом смахнув пелену иллюзий. (Собственно, только в мгновение «реального времени» это и возможно.) В конфуцианстве примерно то же самое: человек способен быть нравственно безупречным и «не обманывать даже в темноте». А кто так не хочет, пусть пеняет на себя. Только дурак выставляет свои слабости на всеобщее обозрение. (В России, впрочем, это почетная роль.)
Предлагаемая в Китае система социального контроля есть, в сущности, косвенный «налог на порок» и полностью соответствует нормам китайской культуры. Пугаться ее будет только небольшой сегмент прозападной интеллигенции, которая тем самым в глазах властей выдаст… свою порочность. А как сами «смотрящие»? Будут они поддаваться своему эгоизму? Вопрос в рамках восточного миросозерцания некорректный. Лао-цзы спрашивает иначе: доверяешь ли ты себе настолько, чтобы тебе верили другие?
Но главное, какой свободы мы хотим? Свободы своеволия или свободы одоления своего своеволия и, следовательно. принятия всех потенций жизни?
Азия выбирает второе и получает свободу внутри надсубъективного порядка жизни. Свободу вездесущей действенности в оставлении себя, ибо здесь уже нет ни «я», ни «ты», ни даже «мы». Вот тебе, бабушка, и «антиутопия»! В этой свободе есть «предостаточно места, где погулять» (см. рассказ Чжуан-цзы о мяснике, разделывающем быков), и это гуляние по мне куда шире и глубже полузапретных гулянок по-европейски и даже по-русски.