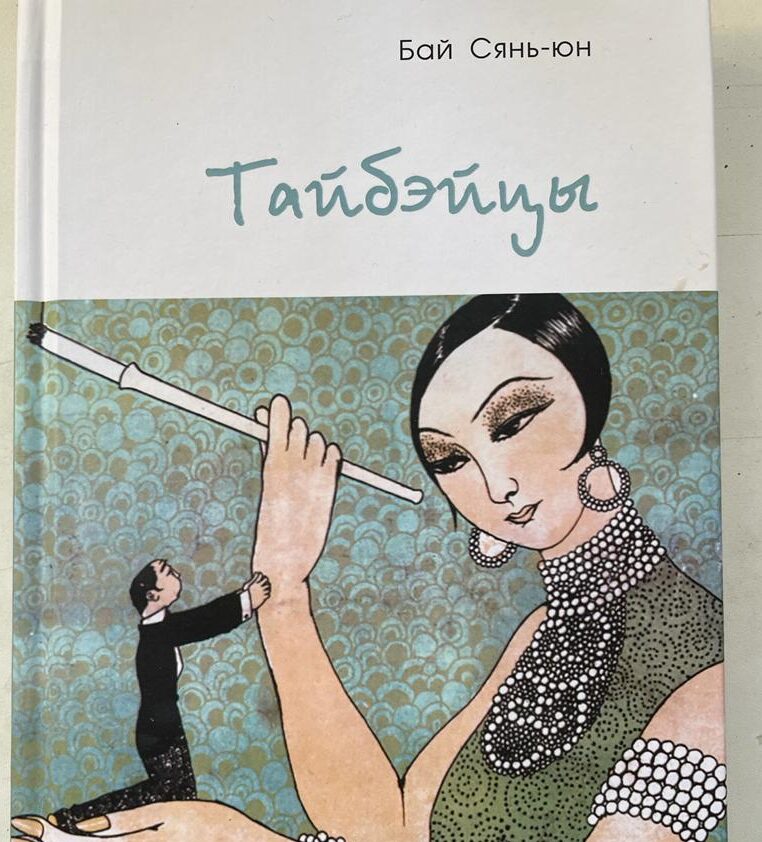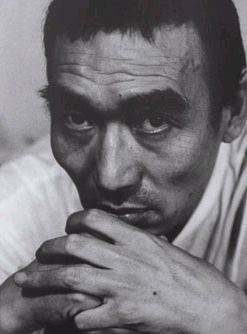О русских, китайцах и евразийской ситуации

Владимиру Николаевичу Соколову –
моему проводнику на путях Дальнего Востока
Историю отношений между русскими и народами Дальнего Востока не так уж трудно описать. Гораздо труднее ее рассказать, изложить в чувствах, показать в лицах. Я знаю два великих произведения в жанре «повести», два повествования о встрече – встрече как историческом событии – русского и тех, кого раньше называли «инородцами», на Дальнем Востоке. Одно – «Дерсу Узала» Владимира Арсеньева, другое – «Жень Шень» Михаила Пришвина. Первое знакомо всем с юношества или по фильму Куросавы. Второе известно гораздо меньше, а зря. По литературному таланту и остроте взгляда Пришвин выше Арсеньева. Он вообще один из лучших писателей и, не постесняюсь сказать, мыслителей России ХХ века. Его дневники – одно из лучших свидетельств не столько даже трагедии революционной России, сколько выстраданной зрелости души. Пришвина плохо знают: не криклив, вдумчив, даже приобрел репутацию детского писателя – заслуженную, конечно, и все-таки страшно несправедливую.
У повестей о Дерсу Узала и китайце Лувене (странное имя, но уж какое есть) есть еще одно достоинство. В них метко схвачено то, что можно назвать «евразийской ситуацией».Где и как она возникает? Посмотрим на карту: Россия и Китай – две огромные страны, где обширные пространства занимает так называемая периферия (поклон М.С.Михалеву). В сущности, вся Россия – «пустое место между Европой и Азией» (Даниил Андреев), периферия на одну шестую часть суши. Уход в глушь, в «пустыню», на «край земли» – ядро русского характера, его жизненный нерв. И Россия стала собой, когда приросла необъятными окраинами. Но и Китай при всех его попытках открыться миру так и остается при своей Великой стене и каждой черточкой своей жизни дает знать, что он – «другой» и «особенный». У китайцев и правда их, Великий Путь, такая же: он – вне идей, понятий и образов, и если это путь жизни (а китайцы больше всего ценят жизнь и ее «практический разум»), то жизнь есть его «инобытие», буквально «другое тело» (бье ти, 别体). В том-то и дело, что настоящая жизнь – всегда другая жизнь.
В повестях Арсеньева и Пришвина очень разные люди из очень разных стран встречаются на самом краю своих культурных миров. Ситуация, впрочем, как нельзя более естественная: где же еще встречаться очень разным людям? У Пришвина оба героя повести – и русский, и китаец – пришельцы из большого города, и оба открывают в тайге великую правду другой жизни: девственная земля быстро стирает с них пустые условности общества и неожиданно делает из них… настоящих людей. Это значит: быть человеком мира, вместить в себя мир, доверчиво прильнув к нему, как младенец к матери. И мир в ответ становится человечным, раскрывая перед этими восхищенными наблюдателями несметные богатства жизни.
Так чувство живого сродства с природой открывает перед героями повестей перспективу вечности – манящей и опасной, пугающей—родной. У Арсеньева Дерсу Узала упоминается впервые в том момент (момент, как указывает В.Н.Соколов, чисто литературный), когда, выслушав рассказ местного старика о «преданьях старины глубокой», герой выходит из дома в тишину ночи, видит ясные звезды в небе, слышит хрип лошадей и стон выпи в болоте. «Я вспомнил Дерсу, и мне стало грустно», – рассказывает он. Вот свидетельство о человеке в свете «откровения вечности»: внезапного осознания того, что так же светили звезды и стонала выпь много тысяч лет тому назад, когда история еще не началась, и я, смущенно внемлющий этому миру, тоже принадлежу его первородству задолго до всего привычно человеческого… И в сознании рождается библейский вопрос-мольба: «что есть человек, что Ты помнишь о нем?»
Пришвин прямо начинает свою повесть с этого взгляда «в свете вечности», противопоставляя ему разрушительный произвол человека:
«Звери третичной эпохи земли не изменили своей родине, когда она оледенела, и если бы сразу, то какой бы это ужас был тигру увидеть свой след на снегу! Так остались на своей родине и страшные тигры, и одно из самых прекрасных в мире, самых нежных и грациозных существ – пятнистый олень, и растения удивительные: древовидный папоротник, аралия и знаменитый корень жизни Женьшень. Как не задуматься о силе человека на земле, если даже оледенение субтропической зоны не могло выгнать зверей, но от грохота человеческих пушек в 1904 году в Маньчжурии они бежали, и, говорят, тигров встречали после далеко на севере, в якутской тайге. Вот и я тоже, как звери, не выдержал…»
Скажем теперь, что встреча только и может случиться в пограничье и что она требует от ее участников преображения. Рассеиваются привитые цивилизацией привычки и позерство, а то, что казалось раньше этнографическим курьезом, приобретает вдруг глубокий смысл, одновременно очень практический и смутно метафизический. Что делает эту ситуацию истинно «евразийской», так это способность героев Арсеньева и Пришвина увидеть в незнакомце и притом в «туземце», «инородце», настоящего друга. Этого нет в классических образцах английских повестей со сходным сюжетом (Робинзон, Волден, «Повелитель мух»), где герой остается одиночкой или становится господином и даже диктатором, не говоря уже о море разливанном «колониальной» литературы.
Что в дружбе людей, предавших себя матери-природе, собственно человеческого? Это понятие следовало бы держать на подозрении. До него еще надо дойти. Оно легко скатывается – тут прав Ницше – в «слишком человеческое». Подлинная мера человека есть труд обретения в себе человечества, и доступно это только тому, кто обрел великую чуткость духа и живет в радостном согласии с миром. Человечное в человечестве: вот формула человека. Чтобы этого достичь, нужно уметь смиряться: быть с миром в мире. Таково задание, по сути глубоко нравственное, азиатской, но, конечно, и русской мудрости. Жизнь «на лоне природы» не развращает и даже не «опрощает», а, напротив, дисциплинирует. Она требует заботы не только о ближних, но и совсем незнакомых дальних. Примечательная деталь: простые китайцы в тайге, играя в карты, не допускают даже мысли об обмане, а если обман раскроется, обманщика убивают. Целомудренная жизнь требует чистых чувств и решительных поступков. Дружба есть ее, в сущности, единственная школа. В школе дружбы все призваны достичь невозможного, и поэтому все ясно ощущают, что нуждаются в учителе. И только в дружбе мы можем понять, что учитель и друг в конце концов нераздельны, ибо для того, кто в пути, правильно жить и узнавать новое тоже неразделимы.
В дружбе каждый становится удивительным, чудесным. В ней каждый, уступая другу-другому, вмещает в себя мир. Дружба созидает метацивилизационное пространство, где каждый момент жизни сталкивает с бездной неведомого и возвращает к началу бытия. И такое пространство знакомо каждому жителю Дальнего Востока (читай: истинному русскому), где еще и сегодня все напоминает о непамятуемом, отсвечивает невидимым, и дела людей странным образом питают забвение, навеваемое природой: заброшенный аэродром или казарма столетней давности неожиданно быстро теряют приметы времени и сливаются с безымянными руинами древности. Эта правда евразийского простора выражена в странной слитности доисторических рисунков и естественных трещин на камнях, складок местности и остатков неведомых крепостей… Мир вездесущей мнимости, где реально только отношение, сердечная сообщительность.
Ближе к концу повести Пришвин произносит одно точное слово: живая тишина. Вот сущность глубинного единения мира и человека. Здесь все живет вместе, в безыскусной совместности помимо формальностей. Залог великого многоцветия жизни – ее неукоснительное единство.
Евразийская ширьпобуждает искать идентичность в инаковости – правду одновременно русскую и азиатскую. Наверное, не найти на земле народа, который умел бы жить по принципу «своя своих не познаша», больше чем русские. Но ведь и китайцы многолики до такой степени, что часто не узнают друг в друге соотечественника. Как раз здесь мы найдем семена подлинной всемирности, которая никогда не будет формальным единством. В противном случае не будет человечества.
Становятся понятнее и некоторые особенности русско-китайских связей, которые смутили не одного исследователя. Например, способность обоих народов не замечать друг друга, даже будучи близкими соседями, даже если русские десятками тысячи жили в Китае и среди китайцев. Или признания русских эмигрантов в Китае, что только вдали от родины, они осознали себя русскими. Мне видятся здесь не недоразумения, а возможности раскрыть неизвестный пока потенциал народной жизни в модусе евразийской «совместности». На этот потенциал указывает концовка повести Пришвина, из которой явствует, что жизнь в «пустыне» дает силы для успеха в обществе. В конце концов Арсеньев и Пришвин написали повести о людях, которые не зря прожили свою жизнь.
А теперь несколько фрагментов из повести Пришвина о встрече с китайцем, о китайских нравах и о таинстве жизни, связывающем людей крепче идей и законов.
1. Встреча с китайцами
В той стороне виднелись на сопках две фанзы с небольшими пятнами китайской пашни. Хозяева-китайцы охотно взяли у меня кабана, покормили и дали мне за мясо рис, чумизу и еще кое-какое продовольствие. После того как оказалось, что патроны – та же валюта в тайге, я стал чувствовать себя очень хорошо, довольно скоро.
– Ходи, ходи! – сказал он мне.
И кое-как по-русски объяснил мне. Три года тому назад этот распадок был захвачен китайскими охотниками: тут они ловили изюбров и пятнистых оленей.
– Ходи-ходи, гуляй-гуляй! – с улыбкой сказал мне китаец.– Ничего не будет.
Эта улыбка и пленила меня, и в то же время привела в некоторое замешательство. В первый момент китаец мне показался не только старым, но даже очень древним человеком: лицо его было сплошь покрыто мелкими морщинами, цвет кожи был землистый, глаза, едва заметные, прятались в этой сморщенной коже, похожей на кору старого дерева. Но когда он улыбнулся, то вдруг загорелись черным огнем прекрасные человеческие глаза, кожа разгладилась, оцветились губы, сверкнули еще белые зубы, и все лицо во внутреннем смысле своем стало юношески свежим и детски доверчивым. Так бывает: иные растения в непогоду или на ночь закрываются серыми щитками, а когда станет хорошо, открываются. С каким-то особенным родственным вниманием посмотрел он на меня.
– Мал-мало кушать хочу,– сказал он и повел меня в свою маленькую фанзу у ручья, в распадке, под тенью маньчжурского орехового дерева с огромными лапчатыми листьями.
Фанзочка была старенькая, с крышей из тростников, обтянутых от сдува тайфунами сеткой; вместо стекол на окнах и на двери была просто бумага; огорода вокруг не было, зато возле фанзы стояли разные орудия, необходимые для выкапывания Жень-шеня: лопаточки, заступы, скребки, берестяные коробочки и палочки. Возле самой фанзы ручья не было видно, он протекал где-то под землей, под грудой навороченных камней, и так близко, что, сидя в фанзе с открытой дверью, можно было постоянно слушать его неровную песню, иногда похожую на радостный, но сильно приглушенный разговор. Когда я прислушался в первый раз к этому разговору, мне представилось, будто существует «тот свет » и там теперь все разлученные, любящие друг друга люди встретились и не могут наговориться днем и ночью, недели, месяцы… Мне суждено было много лет провести в этой фанзе, и за эти долгие годы я не мог привыкнуть к этим разговорам, как перестал замечать после концерты кузнечиков, сверчков и цикад: у этих музыкантов до того однообразная музыка, что через самое короткое время их перестаешь слышать,– напротив, они, кажется, для того только и созданы, чтобы отвлекать внимание от движения собственной крови и тишину пустыни делать полной, какой никогда бы она не могла быть без них; но я никогда не мог забыть разговор под землей оттого, что он всегда был разный, и восклицания там были самые неожиданные и неповторимые.
Искатель корня жизни приютил меня, покормил, не спрашивая, откуда я и зачем сюда пришел. Только уж когда я, хорошо закусив, добродушно поглядел на него и он ответил мне улыбкой, как знакомый и почти что родной человек, он показал рукой на запад и сказал:
– Арсея?
Я понял сразу его и ответил:
– Да, я из России.
– А где твоя Арсея? – спросил он.
– Моя Арсея,– сказал я,– Москва. А где твоя?
Он ответил:
– Моя Арсея Шанхай.
Конечно, так пришлось и сошлось в нашем языке «моя по твоя» совершенно случайно, что и у него, китайца, и у меня, русского, была как будто общая родина Арсея, но потом, через много лет я эту Арсею стал понимать здесь, у ручья, с его разговорами и считать просто случайностью, что когда-то Арсея Лувена была в Шанхае, а моя Арсея в Москве…
2. Разговор с китайцем
В глубине распадка жаркая сырость в эту ночь подняла всех летающих насекомых, и многие миллионы из них в брачном полете зажгли свои ночные фонарики, как будто заняв для них свет у невидимой луны. Я сидел под навесом фанзы и старался проследить начало и конец пути какого-нибудь светляка. Срок света каждому из них назначен был очень короткий, секунда, может быть, две, и все кончалось во тьме, но тут же начиналось другое. То же ли насекомое, отдохнув, продолжало свой светящийся путь, или же путь одного кончался и продолжался другим, как у нас в человеческом мире?
– Лувен,– спросил я,– как это все твоя понимает?
Неожиданно Лувен отвечал:
– Моя сейчас понимай, как твоя.
Что это значило?
В это время под землей, где все так и продолжался постоянный неровный разговор, вдруг что-то случилось, грохнуло. Лувен прислушался, стал очень серьезным.
– Наверно,– сказал я,– там камень упал?
Он не понял меня. И я руками воздух обвел, сделал пещеру, представил, как упал камень в воду и нарушил течение ручья. Лувен во всем со мной согласился и опять повторил:
– Моя сейчас понимай, как твоя.
Так он второй раз это сказал, и я все еще не догадывался, о чем он говорит. Вдруг Лайба поджала хвост и бросилась в глубину фанзы,– по всей вероятности, где-нибудь очень близко тигр проходил, а может быть, и прямо залег в камнях, рассчитывая Лайбу схватить. Нам пришлось развести костер для защиты, и тогда сразу же на огонь собрались к нам бесчисленные ночные бабочки, и так много их было в эту сырую и жаркую ночь, что явственно слышался шелест крыльев. Этого я никогда не слыхал: так много бабочек, что слышится в ночном воздухе шелест. Будь я простым и здоровым, как было еще так недавно, я не придал бы этому шелесту такого особенного значения, как это было сейчас: шелест жизни ! Но теперь почему-то все это глубоко касалось меня. Я настороженно слушал и, с большими глазами, удивленный до крайности, спросил об этом Лувена, как это он понимает, и в третий раз Лувен значительно сказал:
– Моя сейчас понимай, как твоя.
Тогда я всмотрелся в Лувена и вдруг наконец-то понял его: не жизнь летающих светляков, не обвал под землей, не шелест жизни бесчисленных бабочек занимали Лувена, а я сам. Он-то все это живое давным-давно принял к сердцу и жил в этом и, конечно, по-своему все понимал, но ему важно было через мое внимание к этому понять меня самого. И, конечно, он тоже хорошо знал, кого от меня увез пароход. Вот он берет теперь барсучью шкурку, свою неизменную спутницу в поисках корня жизни, и тут же возле меня, под навесом, свертывается на ней, как собачка. Он так спит всегда, что с ним говорить можно всю ночь и он будет отвечать во сне разумному вопросу, все равно как и неясному бормотанию спящего.
3. Деньги — лекарство
Из разных концов тайги приходили к нему манзы, китайские охотники, звероловы, искатели корня Жень-шень. хунхузы, разные туземцы, тазы, гольды, орочи, гиляки с женщинами и детьми, покрытыми струпьями, бродяги, каторжники, переселенцы. У него было множество знакомств в тайге, и, кажется, после корня жизни и пантов самым сильным лекарством он считал деньги. Никогда он не имел нужды и в этом лекарстве: стоило только ему было дать знать кому-нибудь из своих – и лекарство являлось. Раз было, среди лета Зусухэ так разлилась, что смыла все поля, и новоселы остались ни с чем. Тогда Лувен дал знать своим друзьям – и русские люди были спасены от голодной смерти только этой китайской помощью. Так вот тут-то я и научился понимать, на всю жизнь, не по книгам, а на примере, что культура не в манжетах и запонках, а в родственной связи между всеми людьми, превращающей даже деньги в лекарство.
4. Китайцы и жэньшэнь
Вот тут-то я и увидел впервые Жень-шень, корень жизни, и столь драгоценный и редкий, что для переноса его назначено было шесть сильных и хорошо вооруженных молодцов. Из лубка кедра был сделан небольшой ящик, и в нем на черной земле лежал небольшой корешок желтого цвета, напоминающий просто нашу петрушку. Все китайцы, пропустив меня, снова погрузились в бессловесное созерцание, и я тоже, разглядывая, с удивлением стал узнавать в этом корне человеческие формы: отчетливо было видно, как на теле расходились ноги, и тоже руки были, шейка, на ней голова, и даже коса была на голове, и мочки на руках и ногах были похожи на длинные пальцы. Но приковало мое внимание не так совпадение вида корня с формой человеческого тела,– мало ли в капризных сплетениях корней можно увидеть каких необыкновенных фигур! Приковало меня к созерцанию корня молчаливое воздействие на мое сознание этих семи человек, погруженных в созерцание корня жизни.
5. Нравы китайцев
Лувен дал знать в тайгу, и в нашу фанзу пришли китайские рабочие. В загороженном Орлином Гнезде, где свободно паслась одна Хуа-лу, мы построили питомник оленей со стойлами, со двором для выгула и панторезным сараем. Мы целый день работаем, а вечером я вычисляю, записываю, выдумываю конструкцию панторезного станка, и множество тут надо было, при нужде нашей в железе, гвоздях, проволоке, придумать всего, чем можно бы заменить крючки, петли, винты. С изумлением смотрю я на китайцев, как они в карты играют: если кому-нибудь приходит счастливая карта и банк достается ему, то он не дает себе труда открыть товарищам карты и показать счастливую,– он просто бросает карты вместе со счастливой в общую кучу и загребает банк. Никто и не думает его проверять, обман невозможен. Так прекрасно. А между тем, если случится все-таки обман, то обманщика не за ухо потреплют, как у нас, а просто убьют, и оттого, боясь смерти, никто не позволяет себе обманывать: как будто и не очень прекрасно…
Главное, что меня разделяет с китайцами, это – что я все считаю, записываю и во всем отдаю отчет себе самому. У них же все на доверии и все в памяти. Довольно только того, что я все считаю, все записываю, вычерчиваю маленькие планы питомника и панторезных станков, чтобы все эти люди звали меня капитаном … Почему это? Да, есть много вопросов, таких острых, так необходимо кажется их решение, а между тем справиться негде. Я хотел бы знать точно, какого именно происхождения моя капитанская власть. Является ли эта власть частью силы капитана всего мира Европы, имевшей уже довольно давно над всеми странами превосходства счета, записи и действия, или я стал капитаном в глазах китайцев просто за одно то, что я, белый, в их глазах являюсь деятелем капитана-капитала…
6. Жэньшэнь и мир
Мало-помалу, углубляясь с другом в пережитое, вы постепенно и бессознательно начинаете как будто кому-то прощать, становится очень легко на душе, и наконец происходит желанная встреча: под напором возвращенной радости жизни оба друга для себя становятся такими же молодыми, как были. Я так понимаю действие корня жизни Жень-шень. Но бывает напряжение корневой силы жизни так велико, что вы любимого человека, раз навсегда утраченного, находите в другом и начинаете нового любить, как утраченного. И это тоже я считаю как действие корня жизни Жень-шень. Всякое другое понимание таинственного корня я считаю или как суеверие, или просто медицинским. Так, по мере того хода времени: год, другой, – друг не приходит, я начал забывать, и наконец совершенно забыл, что где-то в тайге все растет и растет мой собственный корень жизни. Вокруг меня так все переменилось: поселок на берегу Зусухэ стал небольшим городком, и столько собралось тут разных людей. Я часто езжу по своим большим делам в Москву, в Токио, Шанхай. И на улицах этих больших городов чаще вспоминаю свой Жень-шень, чем в тайге. Вместе со всеми тружениками новой культуры я чувствую, что из природной тайги к нам в нашу творческую природу перешел Корень жизни и в нашей тайге искусства, науки и полезного действия искатели корня жизни ближе к цели, чем искатели реликтового корня в природной тайге.