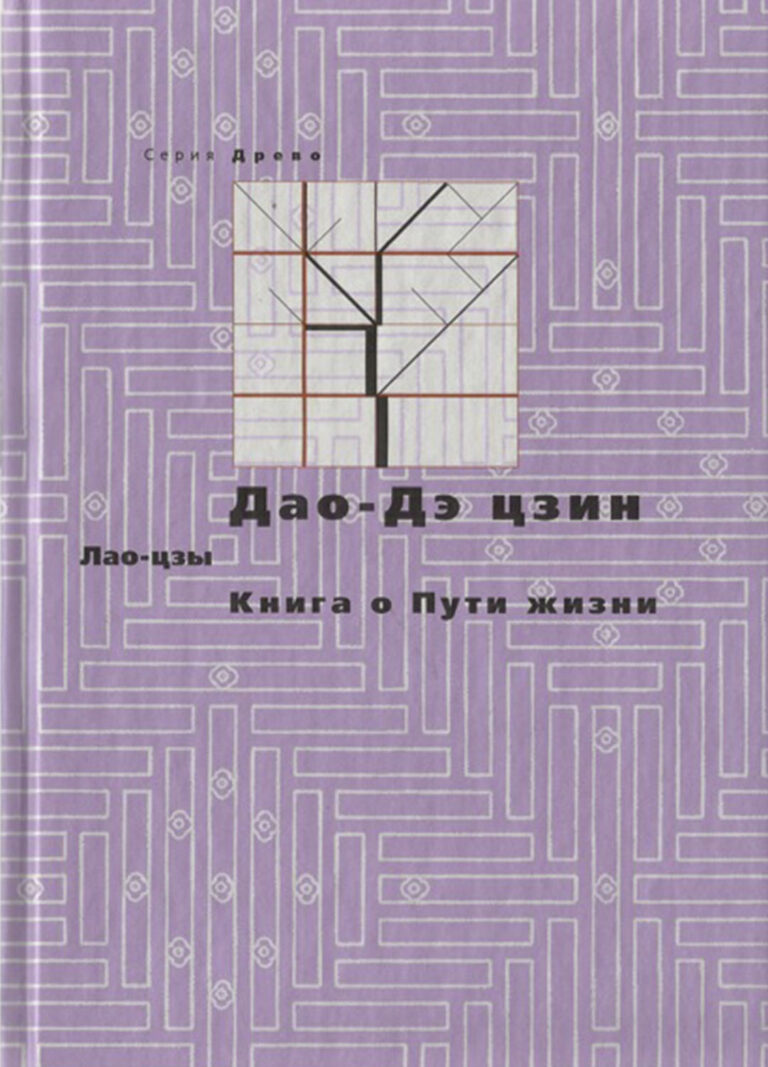Чудеса. Причем в квадрате.
Разбирал старые бумаги и на дне стопки обнаружил чудесный привет из давно ушедших времен: переписку художника и философа позднесоветской эпохи. Художник, Эдуард Штейнберг, уже скончался. Философ, слава Богу, здравствует, и я счастлив быть для него совопросником века сего. Эти письма, кажется, не были опубликованы, и я не смог побороть искушение обнародовать их как памятник того времени и память собственной жизни. Ясно вижу в недосягаемой дали авторов и незримо присутствующего в их переписке незабвенного Евгения Львовича Шифферса. Что же, завеса Леты, подобно водяным линзам перед первыми телевизорами, действует как увеличительное стекло? Или поток времени, смывая все случайное и наносное, обнажает истинное величие каждого? Оставляю письма без комментариев. Отмечу только одну его тему для меня чрезвычайно важную. Евразийское мировидение Е.Л. связывал с прорастанием новых органов восприятия (или, добавлю, восстановлением утраченных, реликтовых). Здесь главная тайна восточных духовных традиций. Еще подмечу, что к Малевичу Е.Л. относился с неприязнью, считал его «супрематические миры» антиподом мира святого (см. эссе «Пространство» в двухтомнике его избранных произведений).
Владимир Малявин

ЧУДЕСА ВОКРУГ КВАДРАТА
Москва — 1982
Дорогой К.С.
Мой старый друг, Е.Л. Шифферс, весной 70 г. обратил внимание на истоки языка геометрии в сознании первохристиан, ссылаясь на книгу »Пастырь» Ермы, творение 1-2 века, чтимое как писание «Мужей Апостольских”. Это сразу оформило бесформенность моих интуитивных поисков, даже больше — поставило кардинально вопрос о времени. С тех пор диалог с Вами почти не прекращался. Вправе ли я на него рассчитывать?
Картина, написанная три года назад в Вашу память, — это не только любовь к идеям геометрии. Разбирать же творчество языком художественных структур — это сказать очень мало или вообще ничего не сказать. В конце концов важнее узнать, откуда пришел художник.
Россия!?.. Место русских проблематично в мире. Чтобы это понять, нашего века недостаточно — споры идут со времен Чаадаева.
В муках рожденное Вами дитя, обреченное на одиночество — «черный квадрат» 15 г. — еще один «х» в системе русских вопросов.
Бог умер — скажет Европа. Время Богооставленности — говорит Россия. Мне думается, что черный квадрат — это предельная Бого- оставленность, высказанная средствами искусства.
«Безболезненный супрематизм. Отрицание лица явлений. Самоубийство по расчету, любопытства ради. Можно разобрать, можно и сложить: как будто испытуется форма, а на самом деле гниет и разлагается дух…» — вот мнение лучших Ваших современников, выраженное О. Мандельштамом, — по поводу созданной Вами философии творчества.
Так что же это? — интеллектуальная игра или трагедия? Благодарите судьбу, что Вы оказались в начале новой истории, а не в конце ее, когда черный квадрат стал воплощенной реальностью.
Россия!?.. Нация, отлученная от Красоты, постепенно немела, обрывая связь с предвечным Словом, подменяя Лик — личинами, Истину — философией, Богочеловека — человекобогом, коллективное бессознательное стали называть «мы».
Видимо, Вы и родились, чтобы напомнить миру язык геометрии, язык, способный высказать трагическую немоту. Язык Пифагора, Платона, Плотина, первохристианских катакомб.
Для меня этот язык не универсум, но в нем есть тоска по истине и по трансцендентному, некое сродство апофатическому богословию.
Оставляя зрителя свободным, язык геометрии заставляет художника отказаться от «Я». Попытки сделать его как идеологичным, так и утилитарным, — это насилие над ним.
Так для меня Ваш язык стал способом существования в ночи, названной Вами «черный квадрат». Думается, что человеческая память будет всегда к нему возвращаться в моменты мистического переживания трагедии Богооставленности.
Москва, лето 1981. Ваш «черный квадрат» вновь показан русской публике. В нем снова ночь и смерть… И снова вопрос — будет ли Воскресение.
Э. Штейнберг 17 сентября 1981
Милый Э.!
Не могу не сознаться, какой радостью было мне услышать изустно твое письмо к К.С., — радостью встречи со свежим, проникновенным и серьезным голосом в нынешней московской разноголосице. Столько вокруг развелось равнодушного, игривого и вместе с тем нахрапистого разумения, что невольно взволнуешься редкому живому слову. А когда надежная радость смотрения удвояется в обещающую радость слушания, радуешься вдвойне.
«Откуда же пришел художник?»
Вспоминается Ваша общая с В. Янкилевским выставка, ее внушающая поэтажность. «Внизу» во вкрадчивом одеянии искусства — передонов- ский переросток-недотыкомка, в здешней зрелости своей — и.о. сатаны Череззадов, как сам он и назвался, с целой свитой всякой нечисти, претыкающеся и предвкушающей; «вверху» — мир прекрасной платоновской ясности, светящейся простоты, уходящей едва заметно — и только через себя самое — в безвидное, может быть, и во мрак, но уже не тот, что «внизу», а в другой, чем-то согретый. Сохраняя верность «Изумрудной скрижали», я вовсе не о том, что плохо, а что хорошо, ведь «что внизу, то и вверху». Но тайна гармонии и ритма, явленная в своей отвлеченной чистоте, меня тогда поразила.
И тем более неожиданными, завораживающими слышались мне твои свидетельствования о «тоске по истине и транеценденции», «языке, способном высказать трагическую немоту» и опознание в пространственных телах «некого сродства апофатическому богословию».
Скорее меня тронула сама возможность этих свидетельств и опознаний, чем их словесное именование: ведь если и впрямь «разбирать творчество языком художественных структур — это сказать очень мало или вообще ничего не сказать», то так ли уж важна та словесная вязь, которой начертано это послание на бумаге. От нее я попробую отвлечься, хотя по сродству со многим названным это будет не так просто.
Возможность увидеть и пережить за со-сложением линий, плоскостей и тел, за стоянием с-носящихся во свете цветностей — со-общенность и детоводительство к Истине, конечно, не может не радовать, даже если она и прозревается «языком геометрии» в отрицательных определениях, «апофатически».
По поводу другой выставки, где также были твои работы (кажется, она называлась «Цвет, пространство, форма»), помнится, я выступал так: «Образ, вне зависимости от его предметности или беспредметности, сохраняет живописную ценность при условии, что его зримостные качества, соотносятся, с одной стороны, с экзистенциальным полем переживаний (отдельные состояния которого назывались страхом и ужасом, скукой и тоской, заброшенностью в мир и забеганием в смерть и т.д., но не обязательно «несчастно», есть и «счастливые» экзистенциалы, не о том речь); а с другой, не разоблачаются до того, чтобы быть только «вещью”, сработанной на показ, одного смотрения ради. Оба эти условия удовлетворяются, тогда зримостные качества образа посредством гармонии и ритма идентифицируют «страсти» и «сути» внутреннего человека, местоимеющего к Царству Божиему (или к тому, что толчется на его святом месте)».
Не могу никак, по малости ума, более внятно выразить это ощущение, не переросшее еще в умозрительную ценность, но что связывание видимого в пространственно-временные, а вместе с тем, в осознатель- но-волевые, символо-энергетические «гармонии» и «ритмы» образно выражают какие-то праобразные страсти и сути, события и состояния духовной жизни, то даже мне очевидно. Может быть, это есть языковая техника экзистенциальной коммуникации в «языке геометрии» или вообще в любом языке?
И еще раз порадуясь: только художническое ясновидение могло доопределить недоуменное внимание в «черный квадрат» как страх полной богооставленности, страх ночи и смерти. Это не «еще один «х» в системе русских вопросов», а уже хотя бы один ответ на них. И ответ далеко не самый утешительный в своей убедительности.
Хочется спрашивать и далее, любыми языками говоря: «Зачем пришел художник?»
В сказанном тобою есть три смысловых слоя, по отношению к которым слоится и мое понимание.
Изначальное: немота, тоска по нераскрытости, ощущение возможности прорасти; это не оставленность уже, а еще не-при-шедшесть; ожидание, в котором, кроме горечи пустопрожнего бытия, есть также пред вкушение будущей встречи. Может быть, я ошибаюсь в опознании, но кажется, что энергии этого слоя выражены в твоем обращении слабо. Что и понятно — в свете твоей географической диагностики.
Промежуточное: немотствующее молчание как «способ существования в ночи», то, к чему будут всегда возвращаться в моменты переживания богооставленности принудительной или в апофатическом «бого- отрицании», иногда незаметно переходящем в ординарный нигилизм; да? здесь есть отказ художника или «философа» от «Я» как источника и цели гордыни, но здесь же может случиться и отречение от всяческой личностности, утрата ипостасности человеческого бытия — в пользу самоутверждения «человеческой природы»; эта обнаженная многозначность и есть лоно творческой свободы, а также свободы совести, где ни к чему уже не принуждают, но ничего еще и не выбрано.
Это свобода до «шестого дня», а есть, как ты знаешь сам, «день восьмой». А.А. Ахматова говорила о Б.Л. Пастернаке: «Дело в том, что стихи Пастернака написаны до шестого дня, когда Бог создал человека… в стихах у него нету человека. Все, что угодно: грозы, леса, хаос, но не люди. Иногда, правда, показывается он сам, Борис Леонидович, и он-то сам себе удается… Но другие люди в его поэзию не входят…». Это слова «не сумевшей во время умереть», как писал об А.А. известный «маяковед» В. Перцов, о не успевшем еще родиться у Б.Л. (в творчестве, разумеется). «В те годы, — вспоминает Л. Чуковская, — Анна Андреевна жила, словно завороженная застенком, требующая от себя и других неотступной памяти о нем, презирающая тех, кто вел себя так, будто его и нету…», памяти, ибо «застенок, поглотивший материально кварталы города, а духовно — наши помыслы во сне и наяву,..» желал оставаться всевластным и несуществующим зараз». Представь себе, как Поэт у серой стены — в памятовании своем и его силою именно — призывал к ответу эту «всевластную и несуществующую силу», не «друзей народа», конечно, а все то же «ничто», ту же самую «немоту», но здесь — цепкую и липкую. «Мне было так плохо, что я 13 лет не писала стихов…», позже сказала о том Анна Андреевна.
И в самом деле, многозначность немотствующего молчания, так отличного от свидетельствующего слова, весьма способна срываться в разного рода «застенки» и тогда уж не дай Бог «самому себе удастся» (это, конечно, не о Пастернаке).
И потому нужно вспомнить, после изначального и промежуточного, еще и окончательное: и тут мои главные вопрошания, недоумения, взволнованные ожидания. Неужто снова «ночь и смерть» и безответность «будет ли Воскресение»?
Если так, то почему эта безвыходность и «проблематичность», как ты выразился, не вяжется с прекрасной платоновской ясностью, почему нет ей места в светящейся простоте твоих полотен? Или язык геометрии более верен надежде, чем географическая диагностика?
О, это только вопросы, поверь, только вопросы.
«Но с чем пришел художник?»
В надежде, что и мы продолжимся когда-нибудь, остаюсь во вслушивающемся ожидании.
С неизменным почтением и преданностью — Олег Генисаретский.
07.2.82
Не помню, зачем ты пришел, но с тобой пришла надежда. Вслушиваясь в тебя я продлеваю свой лепет.
Вопрос «С чем пришел художник” — законный вопрос, а я хочу спросить: «С чем пришел человек?» Не хочется разделять эти понятия, когда «гений и злодейство несовместимы», но, увы, часто бывает и наоборот. Человек не ограничен рождением и смертью, поэтому и хочу что-то прояснить себе.
Жизнь моя не бегство от избытка сил, а осознание того, что их нет. Мое художество — тип сознания, которое ничего не умеет и мало знает. Оно как бы приспосабливается, чтобы не зачахнуть, не успев родиться. Связь времен торжествует над причиной, но не в наш век. Сталинское время более экзистенциально, а мы тень этого времени. Ахматова, Платонов, Мандельштам, попав в сталинский капкан, воскресли из этого века и как… Бывают времена паралитичные. Наше время? Увы… Не знаю — неужели это только рев Высоцкого? И еще, когда искусство отрывается от культа, то оно напоминает бричку, в которой сидит Павел Иванович Чичиков.
«Искусство при свете совести» — это вообще отказ от искусства. Остается не утрата человеческого бытия в пользу самоутверждения человеческой природы, а благодарность за подарок (дар) дарящему.
А как избавиться от «мертвых душ» — ответ один: захотеть избавиться.
Я как бы сознательно сфокусировал свой взгляд на Черном квадрате, не отделяя его от географии России. Это данность для нас, а не спекулятивное сужение проблемы. Ты прав, проблема имеет не только горизонтальный взгляд, тем более, что любовь к Истине больше любви к Географии.
Смерть-ночь — будет ли Воскресение? — это говорит Черный квадрат К. Малевича. Видимо, я это просто плохо прописал. Ибо Воскресение было и будет и происходит каждый день — об Нем свидетельствует св. Писание и Церковь.
Бесконечно тронут твоим вниманием к моему творчеству. Понять — это то же, что и простить. Преданный теме, Эдик Штейнберг.
16.2.82
Р. . Смог ли я ответить на поставленные тобою вопросы?
Сократовский даймон обучил знаменитого афинского вопрошалу таинственному повивальному искусству — родовспоможению истине. Ученик оказался сноровистый и не раз помогал тугодумам преодолевать потуги мысли, не утруждаясь вопросом: а откуда они берутся, мысли; и, видимо, полагая, что зачатие их и вынашивание особого искусства не требуют.
В таком ли положении находимся мы сегодня? Разве бесплодие и недоношенность не стали уже кошмаром творческой жизни? И разве только авторы в том виноваты: а различные «умные силы» не стерегут ли ум в момент священного брака его с душою и не стараются подгадить, поелику возможно, в обретении почвой души вожделенного горчичного семени; или после того, понукая к преждевременному и часто насильственному произведению произведения?
Пусть наш даймон (или, если Вам так больше нравится, ангел) расширит сократическое искусство родовспоможения творчеству, включив в него все, что обещала нам евгеника: и искусство зачатия, и вынашивания, и рождения, и роста (в откармливаниях), и плодоношения, и, наконец, окармливания выношенными плодами.
Иногда, глядя на близлежащие творческие начинания, видишь, как в них действуют вне-искуснические подземные токи и толчки, слышишь, как в утробе рода шевелится неведомый еще младенец внутреннего человека — не имеющего пока ни образа, ни имени, но являющего таинственно во вне очертания своего скрытого пока тела. Может быть, он родится вскоре, а, может быть, выкинется полутрупом в культуру в сотрясениях истории или будет злодейски вытравлен отовсюду.
Один художник, насмотревшись на выставке «Москва-Париж» черных квадратов, вступил в переписку с К. Малевичем. Не так давно она была опубликована, к счастью, по-немецки, так что прочесть ее оставшиеся в живых ученики Малевича не смогут. Дело, скажу я Вам, заразительнейшее. Посоветовавшись (в уме) с известным Вам тропа- ревским наставником, и я решил кой о чем спросить супрематического князя. Миновав без особых приключений башню пастыря Ермы и протиснувшись кое-как сквозь новоделы Горкома Графиков, я оказался среди «белого-на-белом». Не стану утомлять Вас протокольными сведениями этого сеанса, но из внятно понятого произнесу оттуда одно только слово: Евразия.
Есть такой пласт нашей истории, именуемый евразийским. Имена его первооткрывателей, путешественников и исследователей, завоевателей и промышленников у всех на устах и нет нужды ныне упоминать их. Совсем недавно, например, появилась многообещающая евразийская теология, открывшая глаза сонному обывателю на перспективы буддо- христианства, что в свете завершения строительства «мистической магистрали», именуемой на профанном языке «БАМ», значит очень и очень много. Однако в устах К. Малевича слово «Евразия» явно имело эстетический оттенок. Так, по крайней мере, я его смог понять, а поняв, стал задавать себе разные вопросы.
И правда, принятие историософских установок этого уровня дает повод для «изживания» (поклон А.А. Блоку) здорового недоверия к авангардистскому культуроборчеству. С евразийской точки зрения культуроборческие инициативы русского авангарда видятся не вырождением, а возрождением: возрождением «арийской» составляющей нашей культурной истории, того индо-европейского субстрата, который нашел гениальное языческое завершение в буддизме, возрождением, настоятельно звавшим привить к шаманскому древу ветви древа крестного, ютившиеся худосочно в нашем «евро».
Супрематическая революция К. Малевича (беру ее как типологический пример) есть — в евразийской перспективе — переоснастка внутреннего человека обитателей Евразии, переналадка его в новые чины и последования, наиболее удобоприемлемые ныне для восприятия и понимания «зраков» и «звуков» Литургии Небесной, перенастраивание его внутренних приемо-передающих устройств на новые волны, новые » ритмы и гармонии». Почему «новые»? В каком смысле «новые»? И причем тогда слово «возрождение»? В том очевидном смысле, в каком поновление (Ветхого Завета — в Новый) и возрождение (например, греко-римской античности в Италии) суть одно и то же. Евразийский пласт предполагает включение в рассмотрение процесса антропологического синтеза: становление антропологического и этнического прообраза, прототипа человека (внешнего и внутреннего), процесса, которые на языке гуманистики Нового времени назывался «очеловечиванием человека», а на языке отцов церкви — его — «обожением». Супрематическая революция — толкание внутреннего человека в лоно рода, акт дифференциации его органов (плавники и жабры незаметно поменялись на крылья и клюв, которые потом также переродятся во что-нибудь).
Внутренний человек — мера всех вещей человеческих. Но есть не только они.
Ценности — органы внутреннего человека. Их полнота — это свидетельство его неповрежденности, его будущего целомудрия, мудрствования в целом и о целом. Ни что не ценно само по себе, но лишь то ценно, что хранит наличную развитость внутреннего человека, что способствует его росту и возмужанию. Но кем он станет, об этом не узнать в пространстве ценностей. Для этого от ценного нужно взойти к святому. Святыни выводят нас из окаема «человеческого, слишком человеческого», но именно они являются единственным обеспечением самоценности ценного в мире человеческом. Расколдованный полностью мир, где не будет уже ни таинств, ни потребностей в тайноводстве, ни способности к нему, будет миром банков, интернациональных финансовых и музейных инфраструктур, миром, где все что-то будет стоить, но ничто — не будет ценится как самоценное в себе. И точкой соприкосновения «священного» и «ценностного» является «самоценность» — состояние самобытия внутреннего человека, целостности и полноты человеческой личности. Не имеющее в нем доли, не будет ни ценностью, ни ценным.
Переоснастка внутреннего человека? Переналадка и перенастройка его внутренних органов-ценностей? Но ведь таково всякое творческое самоопределение человека, его происхождение как автора и мастера. Есть акты свободы, в которых одному говорится «да», другому «нет» и обретается — каждый раз разная — первичная жизне-творческая ориентация, раскрывающая в нахождении новых «углов зрения» и «наклонениях воли».
И важно при этом, что есть само-определение, как себя-определе- ние, как обращение к себе; а есть определение-через-себя-других (для творческого подражания) и определение-через-себя~себя-же (для претворяющего припоминания).
Супрематическая революция — все в той же евразийской перспективе — это нащупывание нового узла припоминаний и подражаний, приложение творческого уха к рельсам истории, к родящей «сырой земле», нащупывание пульса участия «умных сил» в нашей безумной жизни.
Потому творчество, как сказано ранее было, есть рост из силы в силу, из неба — в небо. Рост, шагами которого и будут означенные «акты свободы», когда можно сказать «да» или «нет» и далее — долго ли, коротко ли — проращивать обретенные в таком «акте» жизне- и смыслообразования. Такие события «бывают изредка — как молнией в сознании осветится момент, и сознаешь, что можешь выбрать то или другое. От этого зависит что-то более значительное, чем то, что произошло сейчас». Так П.А. Флоренский описал «творческое зачатие».
Итак: зачатие, вынашивание и рождение, созревание-рост, плодоношение и окармливание.
Самоопределение — это «обновление ума». В нем дается новое имя, образ и тело, обретается новое лицо. Если отвлечься пока от возможных ошибок самоопределения (избежать которых можно, по мысли отеческой, «различением духов»), то ясно, что, обретая лицо, мы обретаем память о родстве внутреннего человека — одноименному святому, святости как таковой… но это уже совсем другая история, впрочем, в нашей же Евразии протекающая.
28.2.82 г.