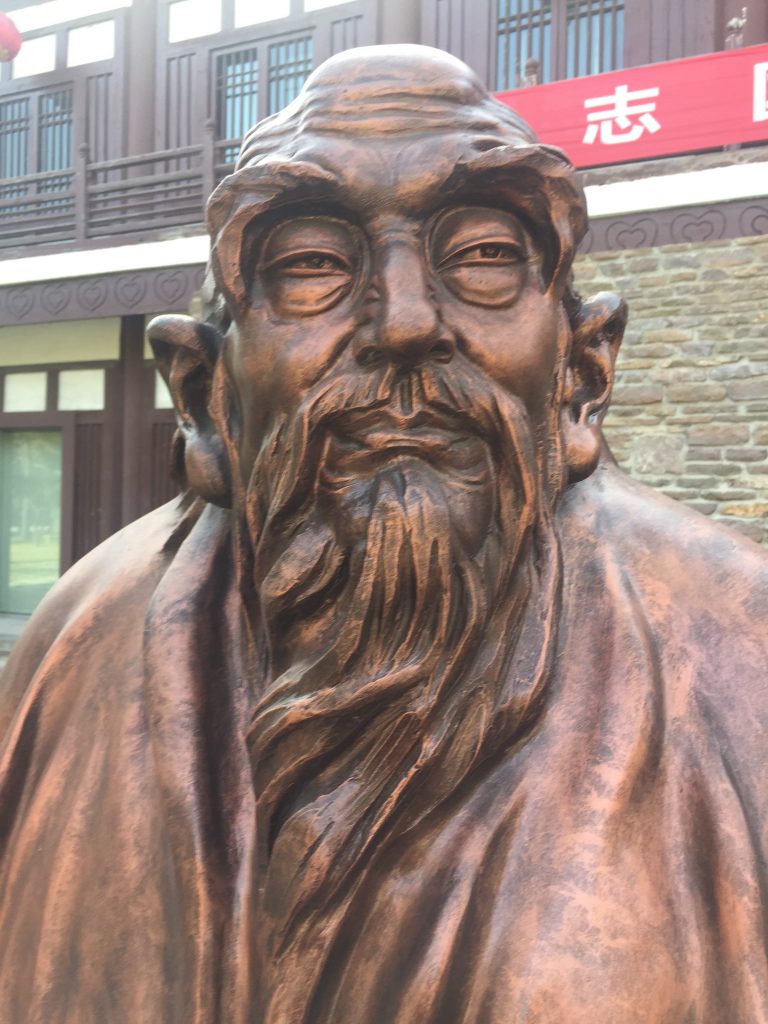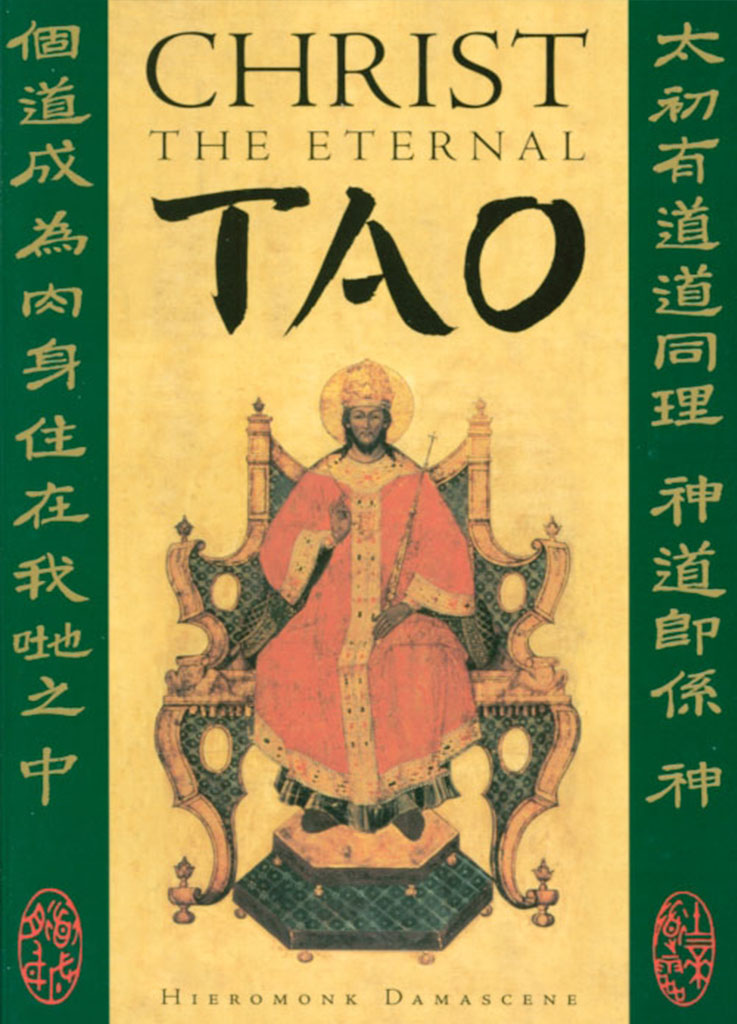Археоистория
«Празднование банальности», привязанное к жесточайшей рациональности капитала, животная жизнь в грезах величия – вот подлинная тема «конца истории». Полезно вспомнить, как путано и противоречиво изложена эта тема у ее главного проповедника, Гегеля. История в ее поверхностном виде хронологии есть для Гегеля только «бессмысленная череда происшествий». В телеологической перспективе она «предстает как судьба и необходимость Духа, который еще не достиг полноты в себе». Это означает, что дух творит историю в той мере, в какой он сам не принадлежит истории, но в каком-то смысле присутствует в ней. «Абсолютное Благо, – пишет Гегель в другом месте, – вечно свершается в мире. Это значит, что оно и предположительно, и в полной актуальности уже достигнуто». Проблема Гегеля, предопределенная законами его логики и стремлением мыслить действительность в категориях оппозиции субъекта и объекта, состоит в том, что самореализация духа в истории равнозначна ее самоотрицанию: дух историчен ровно в той мере, в какой превосходит хронологию. «Свершение времен» мыслилось на Западе как апокастасис, восстановление всего сущего в его полноте для всех времен, что подразумевает также восстановление доисторического лица Земли, т.е. гуманитарную катастрофу. Чего не предвидел Гегель, так это то, что история кончается двумя противоположными способами сразу.
Востоку конец истории был по-своему известен с самого начала: достаточно вспомнить тему «возвращения» (перевоплощения) предков, а впоследствии и будд – явная параллель христианскому мотиву вочеловечивания Бога, хотя толкуемая совершенно иначе. На Востоке конец истории мыслился как отсутствующее, только чаемое восполнение вещей в великом круговороте бытия и потому потенциально доступное в каждый момент исторического времени. Целью же истории на Востоке считалось достижение родовой полноты бытия посредством акта самотипизации вещей. Достаточно указать на нормативные комплексы движений в китайских боевых искусствах, которые означали именно ритмическую реализацию глубинной матрицы существования. «В каждой фигуре силы надлежит созидать сферически-пустотную полноту, каковая есть Беспредельное, – говорится в недавно опубликованных рукописях одной из школ боевой гимнастики тайцзицюань. – Поэтому главное в каждой фигуре силы – вращение по сфере…»[vii]. Сфера есть фигура одновременно внутренней полноты и вездесущей граничности существования. Речь идет о бесконечно ограничивающем и самоограничивающемся круговороте бытия, безупречной соотносительности или бесконечно действенном недействовании и, следовательно. бездонном резервуаре событий, в котором актуальное (мысль) не может себя до конца реализовать, а реальное (тело) – себя актуализировать[viii]. Но речь идет об истории как пути духовного совершенствования, еще точнее – сокровенной истории школы, возвращающей к исходной полноте сущего. Эта история никогда не продолжается, а, напротив, непрерывно теряется, забывается в мире. Она воплощается в чистой текучести времени.
Итак, конец истории – это не ее прекращение, а ее завершение, исполнение заветов. Но восполнение истории осуществляется в вечно отсутствующей паузе, промежутке бытия, исполненном беспредельной творческой мощи. Сказанное объясняет, помимо прочего, свойственный культурам евразийского ареала акцент на сокровенности истины и передачи ее от учителя к ученику вне слов, в опыте чистого пере-живания.
Если истина нашего существования или, как принято сейчас говорить, наша идентичность есть то, что остается после того, как все оставлено, если она существует вне присутствия и отсутствия и не поддается объективации, то она имеет фантомную природу. Речь вовсе не о фантастике, а об определенном познавательном статусе вещи, которая присутствует как раз в своем отсутствии и может представать лишь собственным подобием – подобием интимно-неведомого. Таков статус вещи как вестника вечности.
У Поля Валери есть любопытный псевдоплатоновский диалог о молодом Сократе, который находит на берегу моря, некий «неопределенный предмет» (objet ambigu). Сократ долго рассматривает его, пытаясь обнаружить в нем какую-нибудь практическую, умозрительную или эстетическую ценность, но безуспешно. В конце концов он выбрасывает свою странную находку в море и благодаря этому становится первым сократическим философом – методологом знания, основоположником западной интеллектуальной традиции. Рассказ поучительный, но умалчивающий о том, что же происходило с Сократом, когда он пытался обнаружить в своей странной находке что-нибудь ценное и понятное. Ответ на этот вопрос – если продолжить примеры из французской литературы – можно найти в эссе Шарля Бодлера о «живописце современности» г-не G. Так Бодлер зашифровал имя французского художника Константина Ги и, как мы сейчас увидим, не без причины. Этот художник днем бродит по улицам Парижа, упиваясь лихорадочным блеском городской жизни: он стремится запечатлеть именно современное, т.е. «преходящее, ускользающее, случайное». Он не делает зарисовок с натуры, но работает по вечерам дома, полагаясь на память, упиваясь «опьянением карандаша»; он работает быстро, как бежит сама жизнь, боясь только, что не успеет запечатлеть мгновенные впечатления, всплывающие в его сознании, эту «фантастическую реальность самой жизни», которая лежит глубже всего видимого и знаемого. И вот под его карандашом «вещи воскрешаются на бумаге, естественные и более чем естественные, прекрасные и более чем прекрасные, необыкновенные и напоенные жизненностью энтузиазма, как сама душа их творца. Из природы извлекается фантасмагорическое в ней. Все хранимое памятью располагается в порядке и подчиняется принудительной форме, идущей от детского восприятия, то есть восприятия, обретающего магическую ясность благодаря своему целомудрию»[ix]. Творчество создает мир более реальный, чем так называемая объективная действительность. Полные экспрессии, неудержимой взрывчатой силы образы, выходящие из под гарандаша г-на G., не принадлежат его субъективной памяти, ибо, по сути, не могут быть удержаны ею. Художник живет инкогнито, и не столько изображает вещи, сколько отпускает их на волю, дает раскрыться их бытийному потенциалу. В равной мере образы его творчества ничему не соответствуют в действительности, но, скорее, заменяют ее и притом воплощают некий избыток жизненности по сравнению с реалистическим изображением: они «жизненнее жизни». Творчество г-на G. – сплошная «благодатная ошибка», систематическая и притом всевидящая «слепота сознания», которая лежит, согласно Мерло-Понти, у истоков нашего восприятия мира. Поистине, увидеть вещь прекрасной, как говорил Ницше, – значит увидеть ее неправильно. Образы, создаваемые художником, побеждают хронологию и приобщают к вечной жизни именно потому, что свидетельствуют о первозданной мощи бытийных метаморфоз – этой силе саморазличия, самопреодоления всего сущего. Здесь все истинно и реально в той мере, в какой не является собой, не принадлежит себе. И поэтому здесь все вещи веют вечностью творческой самозабвенности.
Самое удивительное в этой истории то, что творчество художника G. совпадает в своих основных положениях с принципами работы восточных живописцев: изображать не «натуру», а внутренний динамизм духа, работать по памяти, освобождающий творческий потенциал бытия, возвращаться к истоку жизненному опыта, к чистой восприимчивости духа, что означает возводить вещи к их вечноживым, типовым формам посредством сведения воедино наиболее отчетливых качеств восприятия. Творить так – значит без остатка отдаваться безграничной силе творческих метаморфоз жизни. Человеческий социум и есть, в сущности, такое личностное существование, возведенное к его родовой полноте. Его прообразом в обществе является школа как метод передачи и наследования вечносущих качеств духовного опыта (впрочем, в жизни духа других и не бывает). В школе и школой творится «сверхвременное соборное тело» человечества, длящееся в череде поколений.