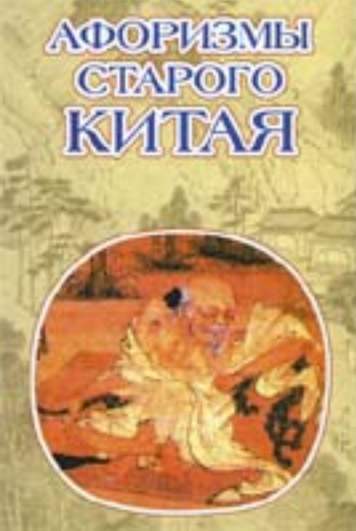Снова лёсс. Часть шестая. Помыслие.

Владимир Малявин
Мои заметки охватили только первую половину нашего путешествия. Впереди было еще много интереснейших мест: город Юньчэн с храмом популярнейшего бога – одновременно войны и богатства – Гуань-гуна и даосским храмом 13 века Юнлэгун с изумительными фресками, изображающими небесных чиновников и «яшмовых дев» во всем их великолепии; древние столицы Сиань и Лоян, деревня Чэньцзягоу – легендарная (теперь, как выяснилось, в буквальном смысле) родина тайцзицюань. Один раз все-таки угодили в молотилку современного турбизнеса: побывали в горном массиве Хуашань, где много веков укрывались от мира даосские подвижники, чтобы в конце концов быть затопленными этим миром. С безжалостной расчетливостью работает машинка по отъему у посетителей денег в обмен на аккуратно дозированные острые ощущения. Олин к одному Диснейленд, только в масштабах природного мира. Китайцев этот трюк вполне устраивает – факт в высшей степени примечательный. Им все равно: подлинное или фиктивное, природное или культурное, физическое или душевное. Главное, чтобы было хаовань – забавно. А забавны как раз столкновение планов и внезапное открытие обманчивости вида. Никаких даосов мы там не увидели, и узнать их отношение к нашествию праздно-равнодушной толпы не смогли. Но жаловаться подвижникам Дао грех. Не они ли учили видеть в мире сплошной поток превращений, отчего каждый образ, каждый вид оказываются только заимствованием, тенью неведомого другого, и в этой бесконечной череде отражений невозможно отличить настоящее от призрачного?
Опрокинем этот поток превращений в вечность, и мы увидим, что путешествие ценно не столько увиденным в нем, сколько тем, что в нем рано или поздно наступает момент перенасыщенности впечатлениями, отчего душа требует метанойи, хочет воспарить над миром, как самолет, набрав скорость, уже не может не взлететь в небо. В этом нечаянном перевороте ума, вместившего в себя мир, насытившегося им, только и открывается смысл существования. Момент истинно религиозный, не сказать апокалиптический, когда небо сворачивается «как горящий пергамент» и все вещи вдруг начинают отсвечивать новым, неведомым светом, так что, по слову Апостола, «имеющий как будто не имеет» и «радующийся как будто не радуется» (сходная характеристика мудреца встречается в конфуцианском каноне «Лунь юй»). Тут действует какой-то общий закон жизни. Хорошая мысля приходит известно когда… И по Фрейду понимание всегда предполагает запаздывание, Nachträglichkeit. Я бы назвал это всегда задерживающееся прозрение помыслием. Есть же в русском языке посмертие, похмелье и т.п. А слово помыслие хорошо еще и тем, что предполагает наследование прежним мыслям и одновременно некое помышление, обещание нового.
Китайцы, вообще говоря, пускались в путешествия не из любопытства, а чтобы пережить прозрение. Для них странствие сохраняло внутреннюю связь с паломничеством, пусть даже объектом поклонения в сильно гуманизированной (но без гуманизма!) культуре Китая был свет в последней глубине человеческого сердца. Чтобы войти в себя, нужно не делать усилие, не крепить хватку сознания, а как раз отказаться от всяких усилий, как бы распустить себя. Недаром жизненным идеалом китайцев было «беззаботное странствие» духа. Нескончаемое странствие среди «тысяч пиков, десяти тысяч ущелий», которое можно совершить, даже не вставая с ложа. Уноситься вдаль, не отрываясь от родной почвы и всех привычек уютного быта: вот подлинное пространство превращений, которые дадут новое видение мира, позволят скользить поверх всех вещей, оставаясь среди вещей. Такова природа пути: быть в мире, не будучи стесненным им.
Классическая формула из «Книги Перемен» определяет реальность так: превращение, которое проницает мир и тем самым обретает качество долговечности. Распространяясь во все стороны, превращение собирает мощь бытия, не теряя свойств «текущего момента», пребывая всегда «здесь и теперь». Нельзя одолеть мир, не пройдя сквозь него. Из какофонии земных звуков рождается небесная гармония, в которой сполна раскрывается природа вещей. Даже массивный бык, разделываемый искусным поваром (см. гл. 3 «Чжуан-цзы»), радостно погружается в ритм вселенской жизни, «словно ком земли рушится на землю», или, если вспомнить другое классическое сравнение, как чистая вода выливается в чистую воду. Повар полагается на «небесное устроение» быка, некий принцип микро-организации мира, каковая есть со-вместность всех моментов бытия. И тогда от одного незаметного движения бычья туша рассеивается, что значит: приобщается к «небесной» полноте жизни. В отличие от Архимеда премудрый китайский мясник не ищет точку опоры, а находит возможность перевернуть мир изнутри него самого, в точке «центрированности» бытия, и это точка… безопорности! Так мясник делает «небесную работу» – чистую работу безграничной действенности, не оставляющую следов.
Ролан Барт, говоря о публичном пространстве в Японии, отметил в нем странное для европейца отсутствие зрелищности, «театральности тел» чреватой истерией: все происходящее показалось ему образцом письма alla prima, где не допускаются ни пробы, ни правки, ни сожаление, ни маневры. На Востоке жизнь пишется – не изображается – степенно-церемонно, но с непоправимой точностью. Эта жизнь наделена твердой и упорной, как алмаз, субстанцией, так что ни одно событие не оставит на ней следа. Или, скорее, она мягка как вода: ее зеркальная гладь ненадолго взволнуется от брошенного в нее «камня идеи» и опять придет к покою. Перед нами мир, который и предвосхищает, и превосходит себя, но никогда не предстоит себе. Мир, где еще нет и уже нет ничего. Как увидеть такой мир? Кто может видеть его? Поистине, спрятанному (и спрятавшемуся?) в его утробе дано видеть только заимствованные образы и говорить в модусе церемонно-вежливой иносказательности.
Мастер ходьбы не оставит следов.
Мастер речи не заденет словом…
Небывалый, всегда только грядущий мир. Не-мыслимый социум, упокоенный во всеобщем забытье. Ибо это мир, досконально обжитый людьми и потому… забытый ими, как каждый из нас забывает свое тело, когда оно здорово, или мастер-виртуоз забывает орудия и самый материал своего труда. «Дело мастера боится». Великое свершение остается незамеченным, хотя становится возможным благодаря необыкновенно чуткому бдению.
Японцы любят утрировать все китайское, и Барт, наверное, не догадывался, что благодаря их усердию смог узреть глубочайшую основу миропонимания Срединного царства. В Китае идеальным считалось как раз такое, небесное сообщество мастеров, где, строго говоря, никто ничего не делает, но все делается спонтанно и безупречно[1]. Примечательна эта раздвоенность видения между взглядом из бесконечной дали, в котором опознается нерушимый покой неначавшегося и завершенного, и взглядом, упершимся в актуальность происходящего, почти сведенным к физическому осязанию или, по завету традиции, «познанию наощупь». Эти перспективы, как макромир и микромир, несопоставимы и непроницаемы друг для друга: одна всегда отсутствует в другой. В обоих случаях нет никаких внешних отношений, никакой предметности опыта. Реальность мирового со-бытия есть, согласно еще одной классической формуле, нечто «предельно большое, не имеющее ничего вовне себя, и предельно малое, не имеющее ничего внутри себя». Пересекать границу между тем и другим, переживая смену целой «картины мира», – значит испытывать бытие на прочность, предаваться чистой радости игры. Так ребенок бьет игрушку о пол, желая узнать, выдержит ли она. Кто опосредует и собирает эти несходные планы бытия в некой непостижимой цельности нетварного покоя? Неведомый «высший предок» или даже, точнее, «великая мать» всех явлений, «изначальный блик-облик» всех людей как родовая полнота человечества.
Если бескрайний простор хранит в себе глубину центрированности, то концом пути может быть только возвращение в родной дом. Путешествие по Китаю должно завершиться возвращением в древнюю страну лёсса, этот мир вечных снов о величии мира.
Как не вспомнить поразительный комментарий Ван Фучжи к рассказу об учителе Ху-цзы («Чжуан-цзы», гл. 7), согласно которому общество, где все дела сами делаются (буквально: «управление само управляется, церемония сама церемонится, пахота сама пашется»), состоит из тех, кто «обрел свою небесную долю», а именно: выработал, наработал свой жизненный мир, в котором удобно и весело жить, ибо нет большей радости мастеру, чем его виртуозная работа. Мудрость – искусство жить, а ее плод – выделанный всей жизнью «габитус», способ удобного существования в постоянном бдении. «Мои года – мое богатство». Итак, идентичность в философии пути определяется не субъектом, а действием. Начало положено, как водится, Конфуцием, который говорил, что, если он не «отдает себя» жертвоприношению, то можно считать, что этот ритуал не состоялся. Так что страшен сон, да милостив Бог: все призрачно, но действие в бдении реально.
Часть пятая. Скульптура Шаньси.
Часть четвертая. Деревня Дунбицунь.